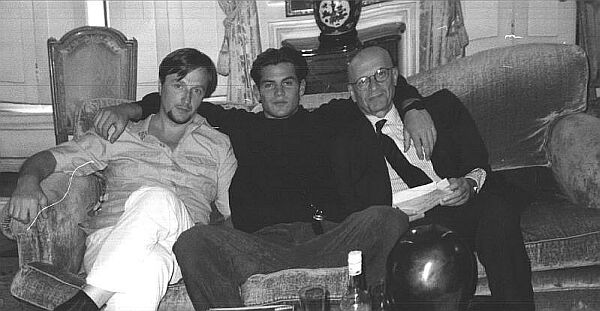|
ФРАНСУА ЖИБО
ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ ФРАНСУА ЖИБО Франсуа Жибо в настоящее время больше известен как адвокат и биограф Луи-Фердинанда Селина, нежели как писатель. Его первый роман представляет собой нечто среднее между автобиографией и фантастическим произведением. Он написан от первого лица и описывает необычное детство, пришедшееся на период второй мировой войны и немецкой оккупации. Безусловно, это чрезвычайно романтическое, странное и утрированное описание реально пережитых событий, и автор сам отдает себе в этом отчет.
Центральный персонаж книги, отец повествователя, представляется наполовину сумасшедшим, он одержим одной навязчивой идеей: воспитывать своих детей не как других, и научить их думать тоже не как другие. В этом персонаже много вымышленного, но есть и достаточно живые реальные черты, которые автор, вполне в духе Селина, сильно утрирует. Другой важный персонаж романа - это мать, к которой автор чувствует настоящую нежность, что все время пытается подчеркнуть. В романе описаны также кузен автора Жюлиус, который всегда готов совершать самые разные глупости, и тетя Урсула, милитаристка и патриотка до такой степени, что в день, когда Франция капитулировала, она разнесла себе голову выстрелом из ружья. Франсуа Жибо вырос вместе со своими братьями полуголым в доме, который никогда не отапливался, а кормили их очистками овощей и протухшим мясом. Несколько раз в день их подвешивала за ноги, чтобы кровь поднималась в голову и орошала мозг, чтобы он лучше работал и порождал больше интересных мыслей. Музыка в семье Жибо была полностью запрещена, потому что она усыпляет личностей, которых нужно было бы наоборот пробудить, и воодушевляет толпы, которые следовало бы успокоить... По утверждению автора, благодаря этому воспитанию у него до сих пор железное здоровье. А если прочитать этот роман, то становится понятно, что воспитание не прошло бесследным и для его умственных способностей.
ФРАНСУА ЖИБО"КИТАЙЦАМ И СОБАКАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"БОБУ СНОВА И НАВСЕГДА ПРЕДИСЛОВИЕ Эта вещь рождалась, как дитя, столь же мучительно. Это собрание всего и ничего, которое не имеет ни начала ни конца. Это взгляд сквозь открытое окно, сквозь дверь на улицу, на движущихся там людей и животных, и на того, кто когда-то был мной, но теперь таковым не является и не имеет ко мне ни малейшего отношения. Здесь запечатлелось непреодолимое желание заявить о себе, оставить после себя что-то вроде следа. Однако не стоит искать тут воспоминаний о пережитом, убеждений и глубоких чувств. Тут все перепуталось, смешалось в едином потоке горьких и беспорядочных признаний, продиктованных стремлению к освобождению и обретению покоя. Эту книгу можно не читать вовсе, начав, ее можно в любой момент бросить, и тем более совсем не обязательно ее любить. Она была написана не для этого. *** Память, как и все в этом мире, не вечна, воспоминания тоже. Их теряешь каждый день, а когда упадет последний занавес, они все исчезнут вместе с вами за сценой. И хотя многое теряется в пути и изнашивается, кое-что прочно прилипает к вашей коже и долго от нее не отстает. Избавиться от них не так просто, это не дикие птицы, которые улетают при звуке выстрела. Зато их можно изменить, расчленить, переодеть, поменяв местами добро и зло, ложь и истину, превратив свое прошлое в гротеск, в вашей власти сделать трагическое смешным. Уверенности в себе это прибавляет, однако время остановить все равно не может. Все это следует принять или отвергнуть, лишено это всякого смысла, глубоко или поверхностно, это как железнодорожный состав, который каждый машинально тащит за собой по дороге, ведущей в никуда, в землю необетованную. Это не более, чем слова, тени слов, смысл которых едва различим, обрывки жизни, брошенные в воду и уносимые в общем потоке течением всепоглощающего времени. ** Я начал, как все и как никто. Во чреве матери, как все, но это был я, потому, как никто. Именно к тому времени относятся мои самые сокровенные переживания, которые и по сей день остались для меня таковыми, несмотря на обилие новых впечатлений и количество утекшей с тех пор воды. Я всегда во все прекрасно упаковывался, будь то пеленки, фрак, красные форменные штаны или тога. Я изображал из себя ангела, черта и животное и старался изо всех сил, невзирая на жизненные бури и постоянную смену времен года, от которых веяло то теплом, то холодом, но чаще холодом. Во чреве я познал надежды и разочарования, тщетность человеческих усилий и горечь поражений, столь же банальных, сколь и неповторимых, неповторимых, ибо все-таки это был я. Я уже подслушивал, приложив ухо к дверям, свидетельство моей крайней испорченности, однако, это было первое, чему я научился. Мне не хватало впечатлений, и я подслушивл в интимной теплоте, воруя идеи и звуки. Вследствие этой неопределенности, мои остальные способности развивались головокружительно быстро. Я настоящий сын своей матери. Она напоминала Жанну д Арк и Деву Марию, а я подобен Карлу VII и евангельскому Иосифу, близнецам по своему значению и мощи, у меня как бы две головы, в одной и еще одна от обезьяны из Китая, где меня научили жонглировать, лавировать между рифами и грести против течения мысли, не заботясь о фарфоре. Это очень старая история, но она все еще волнует меня. Многие обнаружат в ней сходство со Столетней войной, машину для путешествий во времени, обычную антикварную лавку, а в общем-то это барахолка. Тщательно подбирая ничего не значащие слова, нанизывая их на ниточку, как жемчужины, я добился того, что каждый может вкладывать в составленные мной фразы такой смысл, какой ему заблагорассудится. В конце концов, никто ведь ничего в сущности не понимает, так в театре всегда найдутся зрители, готовые смеяться над тем, что абсолютно не смешно. Во всяком случае, каждый все равно будет думать по-своему. Было бы над чем. Но пусть другие ломают себе голову и гадают, свинина это или баранина, козлятина или капуста. Я же вот уже несколько пятилетий подряд мараю бумагу и уплетаю бутерброды, прихрамывая и приторно улыбаясь. С неприступным видом и "соплей" на кармане я в одиночестве копаюсь в грязи. ** От начала века прошло чуть больше тридцати, почти столько же, сколько было отпущено Господу Нашему Иисусу. Рождение мое было неприметным и случайным, ко всему прочему все ждали девочку, к приему которой все было уже готово. Таким образом, фальшь сопровождала меня с самого начала, колыбельные песни, предназначенные для другой, будили во мне трагическое ощущение мертворожденного. Мне неприятно вспоминать зыбкую атмосферу моего чересчур приторного раннего детства, которое я провел в окружении бонн и предвоенных хлопот, хотя это было время fox-trott'а, путешествия в Италию, пересечения Атлантики и серебряных помпонов на праздничном наряде. С наступлением сумерек, меня оставляли на ночь до утра, завернутого в простыни, как в саван, в полном одиночестве, сначала в колыбели, а потом в кровати, как покойника в гробу. Так что до войны я умирал несколько тысяч раз, и это повлияло на формирование моего характера, возможно, не совсем так, как того желали окружающие. Теплое ложе, прозрачная вода, сухая трава, о, к этому нечего добавить. На самом деле, я никогда не покидал чрева моей матери, и сегодня, спустя несколько лет после ее смерти, я продолжаю оставаться в укрытии, невидимым для посторонних глаз, а надо мной стремительно проносятся подгоняемые ветром юные и прекрасные облака, в которых есть что-то безумное и которые не вернуться ни завтра, ни через год, никогда. Я состарился вместе с моим деревом. С тем самым, с которым мы вместе росли. Оно поднималось над деревней и с него, с каждым днем все явственнее, я различал вдали побережье. Побережья прекрасны, они всегда скрываются за горами, а те, что поменьше - за обычными холмами, однако больше всего меня волнуют самые трудноступные. ** Я был хорошим эмбрионом, в определенном смысле даже образцовым. После мне было очень трудно покинуть свою раковину, куда я постоянно тайком возвращался. Так же втайне от других я научился радоваться и делать то, что считал для себя самым важным. По-настоящему скрываться от других могут не многие, также как немногие получают от этого удовольстывие. Это сложная добродетель, искусство, требующее постоянного совершенствования и работы над собой. Выставляя напоказ то, что принято скрывать, вы можете скрыть вещи куда более важные. Показная открытость делает лицемерие более привлекательным для других. Мух притягивает мед, и тот, кто хочет добиться откровенных признаний, должен уметь располагать к себе людей, хотя бы для того, чтобы иметь материалы для рассказов. В глубине души я охотник, чтобы обмануть дичь, я способен был бы сам покрыться перьями и взлететь, но я слишком люблю животных, и не могу обратить свое оружие против них, поэтому я вынужден мутить воду и охотиться на узких улочках, в альковах, залах суда, исповедальнях, на стадионах, выставляя себя на всеобщее обозрение и получая от этого истинное наслаждение. Короче говоря, сердце у меня каменное, но оно все равно кровоточит, и объяснить этого я не могу. ** Никому и в голову прийти не могло, что еще в младенческом возрасте я уже все слышал и понимал. Все думали, что могут говорить в моем присутствии о чем угодно, не стесняясь в выражениях, как говорят перед стеной, своим ночным столиком или раковиной, поэтому в моем присутствии говорили обо всем. А я, зарывшись в кружевах, тихонько улыбался и, навострив уши, слушал. После мы потешались над этим вместе с собакой, но никто ни о чем не догадывался. Разговоры взрослых для младенца чрезвычайно поучительны, гораздо более поучительны, чем книги. Та же история, рассказанная мне много лет спустя, звучала совершенно иначе. Будь моя собака жива, она бы могла вам это подтвердить. Я наблюдал, как эти хорошо воспитанные задницы с ложечками и поднятыми вверх пальцами беседуют о том, о сем. "Еще чашечку чая, дорогая? И чуточку молока? Это наш посол прислал мне из Цейлона." "Вы слышали, что говорят о Пери? Не правда ли, она великолепно исполнила свою арию во втором акте?" "Ваш малыш никогда не плачет? Это примерный ребенок. Он смотрит на нас так, будто все понимает, как это трогательно." Я же себя не выдавал, и, как мог, продолжал изображать младенца, только вот плакать я не умел. Я умел смеяться, кричать, сосать, отрыгивать, глупо хихикать, притворяться спящим, блевать, но не плакать. Достичь совершенства в этой роли мне не удавалось, но я все равно старался. Собственно, это и были мои первые упражнения в лицемерии, способствовавшие моему укоренению во лжи, склонность к которой я считаю своим главным достоинством. Невозможно передать, насколько это полезно - уметь врать, смешивая правду и ложь до такой тсепени, что уже и сам порой перестаешь отличать одно от другого. Самое трудное - сохранять при этом холодную голову, чеканный профиль и серьезность. Все остальное - детские шалости. Я упражнялся в этом всю жизнь, что помогло мне подняться по ступеням совершенства. Теперь я восседаю на вершине пирамиды и наблюдаю оттуда за тем, как мои враги копошатся у ее подножья, изо всех сил стараясь вскарабкаться на стену, но сколько бы они ни напрягались, пытаясь подняться, в конце концов они все равно рухнут вниз под громкий смех окружающих. Можно было бы их просто растоптать и уничтожить, но я предпочитаю выразить им свое сочувствие, дабы унизить их еще сильнее. ** Новорожденный в семье - это как камень в луже на мостовой, особенно если он красив, а я был бесподобен со своими вьющимися локонами, от которых мои предки были без ума. А тут еще мои бабушки и дедушки, все четверо тогда были живы, мой брат, моя сестра, консьержка, бонны и собака. И дело даже не в лишнем рте или заде, который приходится вытирать, а скорее в любви, которую теперь приходится делить, как пирог, когда вдруг заявится какой-нибудь незваный гость. Я со своими золотистыми волосами и ангелоподобной внешностью сразу же отхватил себе большую часть, что не ускользнуло от моего внимания, ибо уже в раннем детстве я отличался недюжинными способностями и умением схватывать все на лету. Со стороны я казался ничего не понимающим и не видящим младенцем, но даже не видя ясно окружающих, я слышал все, что они говорили обо мне, каждое их подслащенное высказывание. Дабы не потонуть во всем этом окончательно, мне пришлось прибегнуть к лжи и лицемерию, ибо я скоро понял, что с теми, кто вас любит, надо стараться быть отвратительным, так как это успокаивает страсти окружающих, с теми же, кто вас ненавидит, надо обращаться как можно ласковее, чтобы поставить их в тупик. Только тогда, плавая и лавируя между теми и другими, вы научитесь избегать подводных камней и сумеете выжить. Первые месяцы своей жизни я плыл в своей колыбели, как потерпевший кораблекрушение в лодке при ураганном ветре, я вступил в схватку с разбушевавшимися стихиями и оказался единственным, кому удалось спастись после катастрофы. В первые дни надо быть особенно внимательным, потом будет гораздо легче. Невозможно родиться старым, а потом помолодеть, но я сумел сделать нечто подобное. Каким-то чудом я сразу же, с момента моего появления на свет, многое постиг, а самое главное, я понял, как важно заставить всех поверить в то, что ты ничего не понимаешь. В этом главный секрет моей живучести и долголетия. Это настоящее чудо, что я сумел выжить, выбраться из этих лабиринтов и столпотворений, правда, не без помощи моей матери, которая только делала вид, что ни о чем не догадывается, а на самом деле, она с самого начала все обо мне знала. Вот почему у меня не было ни детства, ни отрочества, по этой же причине меня, в сущности, и взрослым считать нельзя. Я, как пробка, отданная на волю волн, которую бросает то туда, то сюда и которая с легкостью минует водовороты, в коих тонут даже рыбы. Вот так, как пробка я и жил, не отличая плохого от хорошего. Я знаю, что тем, кто родился, тяжелее воды не удалось выплыть в этой жизни. В ясные дни я порой замечаю, как они блестят на дне, под водой, и пусть они чем-то напоминают золото Рейна, я им не завидую, ибо один волосок на моей голове мне дороже тысячи империй. *** Я вспоминаю о своем младенчестве со смешанным чувством, ибо несмотря на чрезвычайно бережное и нежное отношение ко мне окружающих, мне частенько доставалось от них, что глубоко задевало мою крайне восприимчивую натуру, эти раны кровоточат и по сей день, хотя с тех пор прошло уже много десятков лет, и я живу ни в чем не нуждаясь. Впрочем, комфорт всегда вызывал во мне глубокое отвращение, так как я нахожу, что он дурно пахнет. Я сопротивлялся изо всех сил, но мне не удалось полностью от него избавиться, и я боюсь, что однажды он окончательно поглотит меня, ибо старея человек с неизбежностью опять становится трусливее. Самым же трусливым существом в мире является ребенок, и в этом отношении я был вне конкуренции, играя на своей слабости, хрупкости, субтильном телосложении и болезнях. Слабость моих легких и характера, вкупе с моей чрезмерной чувствительностью стали главными козырными картами в моей игре, я быстро осознал их силу и пользовался ими, не испытывая ни малейших угрызений совести. Дома, в школе, на отдыхе, везде я напоминал собой слабо трепещущее, вот-вот готовое угаснуть пламя, субтильное невзрачное существо, еле-еле душа в теле, однако сам я всегда ощущал в себе скрытую от посторонних внутреннюю силу. Бил я всегда только в спину, активно используя ложь и лицемерие, которые и стали решающими факторами при достижении мной жизненного успеха. Я полз, вгрызался, царапался с упорством и терпением муравья, отвоевывая себе место под солнцем и упиваясь комедией, в которой мне приходилось принимать участие. Главное, что я усвоил раз и навсегда - это признание абсолютной бесполезности всех вещей, которые ни в коем случае не следует принимать всерьез. Следуя этому принципу, я никогда не выставлял своих чувств напоказ, старался избегать слез и громких слов, отчего многие считали меня холодным и бессердечным, но ничто на свете не могло поколебать моего самообладания, заставить меня расслабиться и дать волю своим чувствам. С годами панцирь зачерствел. Некогда тонкая корка превратилась в бетон, и теперь я окончательно спрятался от мира за совершенно непроницаемой скорлупой, способной выдержать самые страшные удары судьбы. То, что за ней скрывается, касается лишь меня одного, я выставляю напоказ то, что считаю нужным, по своему усмотрению. Я могу выйти оттуда в любой момент, когда захочу, а в случае необходимости снова скрыться за ней. Порой я пребываю там в полной изоляции от внешнего мира, и даже если бы у моего порога кого-то убили, я бы этого не заметил. С людьми на улице меня ничто не связывает, бунтуют они или покорно смиряются перед судьбой - мне все равно. Я сыт по горло революциями, ложью и войнами. Пусть другие, если хотят, лезут вон из кожи, рвут у себя на груди рубаху, поют Интернационал и танцуют карманьолу. Я предпочитаю наблюдать за ними издали, со своего балкона, зато потом, когда страсти улягутся, я сохраню за собой право их критиковать. *** В течение первый лет своей жизни я был деревенским мальчиком, дурачком, в которого все тыкали пальцем, или бросали камнями. Я сидел на задней парте и старательно ковырял пальцем в носу, не особенно вникая в тонкости склонения слова rosa. Еще и теперь, в шестьдесят с лишним, я не утратил способности изображать из себя идиота. Это мое убежище, орлиное гнездо, откуда я могу безопасно наблюдать за внешним миром. Вы никого не интересуете, все убеждены, что вы ничего не соображаете и ничего не замечаете. Вот тут-то люди, забыв об осторожности и проявляют свою подлинную сущность, а идиот с удовольствием за ними наблюдает. Дома, в школе, на уроках Закона Божьего и на переменах я забивался в угол так, чтобы меня никто не видел, и тихонько хихикал. Этот глупый смех вводил в заблуждение посторонних и оказывал благотворное воздействие на мою нервную систему. А с нервами у меня было далеко не все в порядке, порой со мной случались жуткие приступы, я заглатывал свой язык, задыхался и перед глазами у меня плыл красный туман. Тогда мне в рот запихивали носовой платок и ждали, пока это не пройдет, иногда меня отправляли в медчасть, а порой и прямо в больницу. Но даже когда приступов не было, мои веки, рот, руки, предплечья и ступни продолжали нервно подергиваться. Ходил я шатаясь, и с трудом ориентируясь во внешнем мире, естественно, на меня было смешно смотреть. Со временем мне это стало даже нравиться. Я прятался от окружающих за своей дебильностью, сознательно ее утрируя, пуская слюни, периодически делая в штаны и отпуская убийственные замечания, причем результаты, которых я добился, превзошли все мои ожидания. Вот так, не обременяя себя лишними заботами, вдали от людей я и жил, в школе я отставал по всем предметам, за что меня жестоко наказывали, заставляя выполнять самую тяжелую работу. Более того, огорчение окружающих доставляло мне истинное наслаждение. Другие дети, наоборот, всячески старались казаться умнее, чем они были на самом деле, а я, будучи не глупее их, изображал из себя идиота. Таким образом, я очень рано научился делать то, чего делать не полагалось, что указывает на мое умение владеть собой и абсолютное отсутствие или, напротив, чрезмерное присутствие у меня самолюбия. Благодаря тому, что в школе я был ничтожеством и лентяем, я мог позволить себе жить в своем собственном мире, сосредоточив все свое внимание на себе и ничем себя особенно не стесняя. Я рос, как трава в поле, с чистыми руками и чистым сердцем, наплевав на "общественное мнение", наблюдая за всем происходящим кошачьими глазами и тихонько хихикая, я был, вероятно, самым скрытным ребенком в мире и прекрасно осознавая, что у окружающих было достаточно причин, чтобы меня ненавидеть. Я наблюдал из своего угла, как они беснуются, слышал их речи, их призывы к убийствам, их вопли. Вокруг кипела индустриальная революция, грохотали машины, а топот толпы по бетону напоминал звучание отбойных молотков. Одни были в кепках, другие в фуражках, некоторые - в мягких фетровых шляпах, с обнаженными головами было меньше, женщины были в шляпках, дети - в галстуках и беретах, и у всех на руках были кожаные перчатки, как у убийц, а на ногах - ботинки. В то время, как мне так хотелось, чтобы мужчины были по пояс обнажены, чтобы женщины были в легких платьях, а вокруг них бегали босоногие дети с птицами в руках и собаки. Вот так я и провел свое детство, в ожидании детей, моих сверстников, конечно же, голых, с разноцветными птицами и большими собаками. Я продолжаю их ждать и теперь. ** В моей памяти, словно на улице, скопилось множество нелепых вещей. Еще в детстве, ничего не понимая, я ощупывал их своими усиками. Подобно мухе, способной проникать в самые укромные уголки, я обращался то к воспоминаниям о том, что было до моего рождения, то к волшебным предчувствиям. Я был одновременно всюду и нигде, не сходя с места и двигаясь, я продирался сквозь густую пелену тумана, но, похоже, не продвинулся вперед ни на шаг, и теперь, как и тогда, мне приходится идти наощупь в том же тумане, ничего не видя и не слыша. Стоит мне оступиться, сделать шаг назад, как я тут же оказываюсь в канаве, головой вниз, ногами вверх, отчего сердце мое начинает лихорадочно биться, и я окончательно перестаю что-либо понимать. Одурев от шоколада, измотанный изнурительными бессонницами, я ковыляю по краю жизни, как по краю обрыва. Больше мне нечего терять и я бреду, закрыв глаза, за своей собакой по пыльной дороге. Я иду навстречу пению жаворонков и шелесту листьев. До осени все будет хорошо. А после я впаду в зимнюю спачку, не теряя надежды на новое пробуждение. А наступит ли когда-нибудь это пробуждение - этого не знает никто. ** Здесь я говорю только о том, что поддается пересказу, обо всех этих мелких обыденных пакостях, об ужасе, к которому привыкаешь настолько, что уже его не замечаешь, остальное предназначается для другого мира. Я питаюсь только черствыми корками и объедками. Я прекрасно себя чувствовал в болоте среди гусей и в канаве со свиньями. Я вполне мог бы питаться с ними из одной лоханки и ничем от них не отличаться. Без особого труда я мог бы заставить себя сосать земляных червей и подносить к своим губам сырые половые тряпки, все равно этого бы никто не заметил. Постепенно начинаешь испытывать определенную потребность в самоуничтожении, и оно становится столь же необходимо тебе, как жажда к накопительству и склонность к самообману, без которых человек просто не может выжить и смириться с самим собой. А что касается зрителей и зеркал, то со временем необходимость в них отпадает сама собой, ибо ты становишься несокрушимым, как скала, а твоя воля концентрируется и, подобно снаряду, выпущенному из пушки, способна рассекать воздух и разить противника наповал. Я не отрываясь следил за собой и видел, как мои ступни, поднявшись вверх, отбрасывают тень на желтый потолок. По жизни я продвигался, как по минному полю, лавируя между ложными истинами и подлинными заблуждениями. Таким образом, мне удалось пройти через заколдованные леса, прозрачные реки и прочие места, где повсюду были разбросаны позеленевшие трупы, но напрасно я несся галопом по степи, пытаясь своими воплями разбудить мертвецов, это оказалось мне не под силу. Вот эта тщетность человеческих усилий меня в конце концов и убьет. Но подобный предательский выстрел в спину мне принес бы только облегчение. Ибо тогда я мог бы хоть о чем-нибудь поплакать. ** Маленький вибрион, я долгое время оставался игрушкой в руках других. Меня переполняли амбиции, я изо всех сил бил своими крыльями, и это было ужасно. Мои лапки оставались прикованными к земле, а мои крики застревали у меня в горле. Я потихоньку задыхался в безразличной толпе, хотя и продолжал шевелиться. Мой лифт не останавливался ни на минуту. Одни тащили меня сюда, другие - туда, ну а я предпочел бы кого-нибудь другого еще. Из глубины своей норы я наблюдал за проходящими мимо поездами и взлетающими в небо самолетами. В любой момент запущенный на воображаемую орбиту с огромной скоростью болид мог стереть меня с лица земли под блеянье моих травоядных собратьев. Я никогда не испытывал недостатка ни в еде, ни в домашнем уюте, но был начисто лишен права распоряжаться собственной жизнью, порой мне начинало казаться, что я родился на кладбище, и заливаясь слезами, я пел в огромных пустых залах величественные арии, извергая из себя чудовищные рулады и крещендо. Собаки жалобно мне вторили своим воем, как на похоронах. Запертый в четырех стенах, придавленный к земле тяжелыми низкими тучами, я не мог вырваться из равнодушного мира взрослых. Уже с самого рождения я был как бы заживо погребен, и хотя грудь мою переполняли всевозможные амбиции, вырываться из этого плена я не мог, до тех пор, пока я не отбросил порочную добродетель и не научился ползти, извиваясь всем телом. Но для того, чтобы постичь трудное искусство жизни, мне пришлось пройти сквозь огонь и воду, встать вровень с помоечными котами и бродячими собаками, отринуть от себя и природу, и цивилизацию, и изменить свое тело. Только тогда, постепенно, шаг за шагом, я начал выходить из своей могилы, и сорвав с себя свои саваны, я ушел в жизнь абсолютно голый. ** "Ты всего лишь ничтожная тленная тварь, -- вопила она мне через окошко, -- жалкая, ничтожная тленная тварь, помни, что ты рожден не для жизни, а для смерти!" И еще и теперь, через 60 лет, слышу ее вопли, эхо которых разносится по окрестным лестницам, тропинкам и дворам, они звенят у меня в ушах, хотя я стремительно убегаю прочь. Я бежал что есть мочи. Все напрасно. "Ты всего лишь тленная тварь, не забывай, не забывай об этом никогда." Это уныло заклинание застряло у меня в мозгу и я не могу избавиться от него, забыть о нем даже теперь, по прошествии стольких лет. Что творилось в голове у этой злопыхательницы, что было у нее на сердце, под юбками, каким образом ей удавалось сжимать меня своими словами, как тисками? Я никогда в своей жизни даже мухи не обидел, однажды я должен был выстрелить в человека, но в момент выстрела меня так затрясло, что я промахнулся, и я рад. Что он стремительно убежал прочь. Всякий раз, когда я вспоминаю о нем, мне приятно осознавать, что он остался жив. А та шлюха хотела, чтобы я сдох. Она бы, вероятнО, с радостью наблюдала за тем, как я упаду в лужу крови перед овощной лавкой. Ее раздражало то, что я живу, будто я был не человек, а кролик. И в тот самый миг, когда я на самом деле должен буду лечь и умереть, она будет торжествовать победу. Вот это больше всего и бесит меня во всей этой истории. А ведь уже тогда она была в преклонном возрасте, и не совсем в здравом уме, теперь же, когда прошло столько лет, она вероятно, уже давно под землей. Должно быть, она уже истлела. Она отправилась в мир иной, и о ней никто не вспоминает, даже продавец овощей, который, наверное, тоже умер, так что свидетелей больше нет. Как будто я сам не знал, кто я такой. Простой смертный, конечно, но ведь еще живой. Тогда зачем ей хотелось перевернуть все с ног на голову, там, чтобы деревья росли сверху вниз и невозможно было на них залезть, увидеть море до горизонта, услышать пение петухов, наблюдать за тем, как вечер спускается в долину и на деревню, а дымок, струящийся над каждым домом, тихонько улетает вдаль, будто душа человека. ** В детстве я постоянно ждал нового вселенского потома. Стоило начать моросить дождю, я брал под мышку свою собаку и отправлялся куда-нибудь на гору, чтобы созерцать оттуда стихийное бедствие. Мне казалось, что, случись это несчастье, оно способно было бы разрешить все мои внутренние противоречия и сделать мое существование менее унылым, почему-то я не мыслил своего счастья без несчастья других. А между тем я очень любил своих отца и мать, дом, тетку Урсулу, наших соседей, нянек и собаку, зато ненавидел всех остальных детей, свои игрушки и школу. Я бы предпочел жить где-нибудь на краю света, в тех городах, о которых я слышал только по радио, где говорили на иностранных языках и звучала такая далекая музыка. Я часто рассматривал старые фотографии, на которых у неизвестных мне людей всегда был такой счастливый вид, хотя бы от того, что они жили, и вероятно, любили друг друга. Мне нравилось вдыхать в себя затхлый запах и созерцать пожелтевшую бумагу и перемены в жизни этих давно умерших людей. Все они казались мне великолепными, и я искренне завидовал им. Я был благодарен Богу за то, что он утащил их к себе, мне хотелось, чтобы он истребил и красоток у дверей огромных особняков, чтобы я больше не видел, как эти красотки уносятся в ночь на роскошных автомобилях навстречу ярким праздничным огням. Нечто подобное я испытывал и вечером, после ужина, когда моя мать приходила и склонялась над моей кроваткой, чтобы поцеловать меня перед тем, как уйти, вся благоухающая, в отливающих серебром платьях. Как ничтожны страдания и огорчения других, но зато как они должны быть счастливы, эти другие, уже хотя бы потому, что живут в другом месте и одеты в такие прекрасные башмаки и нарядные костюмы! Но особенно часто я думал об Америке, о том, какие ночи там в городах, о трансатлантических кораблях, о мчащихся безо всякой цели в ночи поездах. В детстве я так страдал от счастья других, что теперь с отвращением вспоминаю свое детство, как будто я сам был тогда несчастен. Как я был неправ, отдавая предпочтение одним и завидуя счастья других, так как будто бы оно бросало тень на мое собственное. В мире хватит места всем, так пусть же отправляются в свободное ночное плаванье корабли, пусть их освещают все луны и люстры, и да будет так всегда и во веки веков. ** Существует связь между двумя поездами, между двумя разными существами, живыми личностями, между мертвыми и теми, кто совсем одинок. Письменная, через нить или волны, непосредственно прямо от одного к другому, с собаками, с листьями на деревьях, с овощами и цветами. В чашке риса, на облаке, утром на опушке леса или просто в дороге, покрытой выбоинами, в пустыне, в тени голубого кедра, под дождем, в жару любое самое неприкаянное и одинокое существо всегда с чем-либо связано. Уже в детстве мне было легче общаться с Богом и мертвецами, чем с живыми. Я никогда не отличался особенным красноречием, даже тогда, когда просто нужно было отвечать на вопросы, хотя сам я был способен задавать такие, которые задавать вовсе не следовало, после чего мне частенько приходилось убегать с воплями, закрыв голову ночной рубашкой. Других детей я всегда ненавидел, я не мог смириться с их превосходством и уверенностью в себе. Я сочинял симфонии, которых никто никогда не слышал, великолепные величественные кантаты, не маленькие пьески, а монументальные сочинения для хора и большого оркестра, более величественные, чем у Верди, слушая которые я не спал ночи напролет, я рассказывал себе прекрасные романы, не записывая, а просто сочиняя вслух, и все это было продиктовано некой невидимой связью. И сегодня еще я, затаив дыхание, вслушиваюсь по ночам в свои произведения, исчезающие при первом же луче солнца. На рассвете они ускользают в сточную канаву утраченных воспоминаний, впадающую в мертвое море человеческой культуры. ** Жюлиус, мой кузен, был невыносим до такой степени, что его родители, которые ничего не могли с ним поделать, доверили его воспитание моим, в надежде, что у них что-нибудь получится. И Жюлиус, живший под нашей крышей, стал моим братом, моим зеркальным отражением. Мне ужасно нравился тот образ, который он отражал, ибо в нем из собачонки я превращался в волка, а из жалкого недоноска, которым я был на самом деле - в настоящего силача с широкими плечами и бицепсами. Он исчез, скончавшись в страшных мучениях, и я снова стал собакой. Ведь только другие делают из вас того, кем вы являетесь, и если ты живешь среди диких зверей, то поневоле начинаешь приобретать их привычки, ешь сырое мясо, и у тебя развивается прекрасное чутье. Вот и Жюлиус научил меня плавать во всех водах, теплых и холодных, и в чистых источниках, и в сточных канавах. Мне же гораздо больше нравилась грязь, ибо чистая вода вызывала у меня скуку. Он научил меня жизни среди крыс, я питался отбросами, и мог подолгу находиться в ледяной воде среди гнили и всевозможных нечистот. С крысами сойтись гораздо труднее, чем с людьми, но если тебе уже удалось завоевать расположение первых. То для разнообразия можно пообщаться и с последними. Обратите внимание на свою внешность, стоит вам сменить нищенские лохмотья на шикарную дорогую одежду, как все люди тут же признают вас за своего. Гораздо хуже тем, кто родился в роскоши. Если им вдруг в голову придет мысль сменить свое высокое положение на лохмотья и отправиться в вертеп, им потребуются века, чтобы завоевать расположение крыс и подружиться с ними. ** Жизнь шла своим чередом, у Жюлиуса уже пробивалась растительность на лице, в то время как у меня еще не было ничего, у него была осиная талия и почти мужской голос. Он носил брюки для гольфа, а я все еще был в коротких штанишках, он мог один гулять по городу, ездить на метро и на автобусе, а мне разрешалось выходить только в сопровождении няни. Он подражал повадкам мужчины, надувал грудь и форсировал голос, тайком курил и вообще смотрел на меня сверху вниз с невыносимым самодовольством. Я ненавидел его за это и порой искренне желал его смерти. В определенном возрасте вопросы жизни и смерти встают перед человеком острее всего. Это пора рыцарства, когда самая ничтожная проблема превращается в непреодолимое препятствие, и разрешить ее можно только путем кардинальных перемен. Ребенок готов умереть в любое мгновение точно также, как он готов убить кого-нибудь, чтобы отмстить за свои унижения, потом он меняется, становится более податливым, безликим, учится сдерживать свои желания, разбавлять вино водой, покорно сносить удары судьбы, иными словами, он становится таким же обывателем, как и все остальные, проникается чиновничьим духом, не стесняется унижаться и гнуть спину. После этого ему остается вступить в законный брак и постепенно терять свои волосы и зубы, наблюдая за тем, как его кожа натягивается или обвисает, в зависимости от того, принадлежит он к лагерю толстых или к лагерю худых. В то время я еще был доблестным рыцарем, и скакал вдогонку за химерами, готовый пронзить шпагой все человечество, свою собаку, своего брата, служанок и кюре, учителей же мне хотелось растоптать и унизить. Теперь, уже на закате жизни, достигнув вершины человеческой подлости, я могу поздравить себя с тем, что этого не сделал и я об этом нисколько не жалею, за исключением, быть может, учителей. ** Тетя Урсула делилась со мной своим опытом, выдавала мне своеобразные максимы, рецепты на все случаи жизни: не плакать, всегда и везде оставаться свободным. Помнить, что всегда есть что-то еще худшее, потоп после потопа, и могила после могилы. Нужно быть готовым покинуть дом с пустыми руками, идти прямо, собирать камни и комья земли, палые листья и сухие сучья. Все эти образы мне нужно было запомнить. Зафиксировать все мелочи, сложить их в кучу, сохранить куски земли так, как если бы это было золото, небольшие крошечные пылинки и большие грубые камни, я должен был собирать их всюду, где бы я ни оказался. Мне надлежало с одинаковым удовольствием научиться преодолевать склоны овраги и плоскогорья, бесплодную дикую скалистую местность, я не должен был гнушаться ни перегноем, ни мхом. Не пренебрегать ни грязью, ни лужами, ни камнями, дабы превратить свою бесплодную почву в плодородную цветущую долину. Никогда не возвращаться назад, все время вперед и только вперед, и никогда не закрывать глаза, разве что на смертном одре. Небольшой свод правил для путников больших дорог. Идти без сумы и без посоха, надеясь только на землю и на траву, да еще на деревья, но ни в коем случае не на цветы, и никакой музыки, кроме тишины природы, этой единственной настоящей музыки, которую, в общем-то, никто не слышит. ** Детство проходит столь же быстро, как и все остальное, это как улетевшая стая диких уток, о которых напоминают только запахи. С годами ты все стремительней начинаешь катиться вниз, забивать себе голову всякой чепухой, становишься все более и более озлобленным и все меньше и меньше веришь в Бога. Каждый вкушает от освященного хлеба детства. Мое прошлое промелькнуло, как вспышка и кошмарный сон, я видел, как рухнули тысячи карточных замков и громадных конструкций, возведенных только для того, чтобы убедить меня в том, что я мужчина и крепко стою на ногах. Но теперь я стал еще беспомощнее, чем раньше, и мне ничего не остается, как запастись терпением и наблюдать за крушением своих последних надежд, которые созрели во мне в ту пору, когда вечерами меня словно предмет из коллекции укладывали спать в пуховую постель. И все же, несмотря на то, что за прошедшие годы я стал рассудочнее и на мою голову обрушилось множество испытаний и смертей, я по-прежнему остался ребенком. Ведь я и сегодня продолжаю лепетать и учиться ходить, я открываю для себя разные вещи и прячусь от людей. Я хожу крадущейся походкой индейца племени Сиу, нахожу для себя все новые и новые игрушки, и на мне все те же короткие штанишки. Я не в состоянии изложить полностью историю моего отрочества, но она мало чем отличается от истории моего детства. Те же плохо усвоенные хорошие манеры, противоестественная тяга к самоистязанию, отвращение к другим и нигилизм. В молодости я испытывал глубокую тоску по детству, которую заглушало желание побыстрее стать взрослым, я не сомневался, что мой путь будет усеян розами, но по мере того, как я переходил от мечты к реальности, практически все мои представления о жизни стали рушиться, ибо вокруг творились невероятные безумства. После детства я вступил прямо в молодость, которая была не похожа на молодость других, и еще менее похожа на воспоминания, которые я о ней сохранил, ибо человеческая память, скорее все разрушает и деформирует, чем сохраняет. Это жалкое приключение кажется мне настолько убогим, что на него просто невозможно смотреть. Я бы предпочел отойти в сторону, закрыть глаза или описать свой конец, но о нем я могу поведать только в другой жизни, уже в аду. ** Я помню белые пионы в комнате моей матери. Она ставила их в белые фарфоровые вазы у открытых окон, где на них дул свежий ветерок, а от опущенных оранжевых штор падал оранжевый свет. В моем слабом сознании это запечатлелось гораздо ярче, чем все "березины" вместе взятые не говоря уже о призрачном будущем, до еще надо дожить. Ибо луч света, падающий из приоткрытой двери в комнату, где я сплю, голос моей матери в маленьком салоне по соседству, волнующее ожидание летним вечером и шум чьих-то шагов по гравию под нашими окнами и через тысячу лет останутся для меня более впечатляющими свидетельствами исчезнувшей империи, чем каменные скалы и мраморные руины Италии. Это, как течение небольшой реки. В потоке той, что освежает глубину нашего сада я вижу приплывший откуда-то издалека стебелек, он уже весь гладкий и наполовину истлевший. Он медленно уплывает к океану вместе с листьями и опавшими лепестками, на минуту его удерживает ветка, застрявшая в воде, потом столбик мостика и мотски для стирки, но затем его снова уносит течение, но проплывет мимо наших соседей, а этим вечером - еще дальше, мимо тех, кого мы не знаем, и так всю ночь, всю жизнь, и сам Цезарь не в силах остановить его. Мысли об этом успокаивают меня. ** Помню, однажды, когда кошка упала с крыши, монахини соседнего монастыря подняли ужасный гвалт, вокруг было полно полицейских машин и машин скорой помощи с сиренами и вращающимися фарами. Казалось, что из-за этой ерунды само небо разверзлось как в День Страшного Суда. Я же не был ни монахиней, ни кошкой, ни змеей, и вся эта возня меня крайне потрясла. Когда в возрасте шести лет я упал в колодец, такого переполоха не было, небо и земля не сотрясались от обращенных к Богу молитв, чтобы меня подняли наверх. Снизу, со дна колодца, я слышал раздававшиеся вверху вопли отца, который уверял, что никогда не видел подобного кретина и обещал лишить меня супа и отшлепать по заднице. А так как суп я никогда особенно не любил, то необходимость его есть была для меня гораздо большим наказанием. Впрочем, наша служанка Пепита неплохо его готовила: с тапиокой и хлебными корками. Сидя по пояс в питьевой воде, из глубины колодца я видел круг голубого неба и голову моего отца, который вопил как одержимый. Но даже шестилетний ребенок способен оценить красоту подобных ситуаций, я бы даже сказал, их возвышенность. В то мгновение передо мной промелькнула вся моя жизнь, и хотя возможно, кому-нибудь это покажется не очень скромным, но я думаю, что обыкновенный ребенок не упал бы в этот колодец и, уже во всяком случае, он бы наверняка себе что-нибудь сломал и пронзительно визжала. Я не сомневался, что если бы я приручил гадюку, задушил ее своими руками перед целой армией центурионов, спас свою тонущую сестру или собаку, помог перейти через улицу тысячам слепых и вообще совершил еще какие-нибудь самые невероятные поступки, то ни один из них не мог бы сравниться по силе и красоте с тем, что я только что сделал. А мой отец так не считал, и это событие прошло для него незамеченным. Вот если бы свидетелем этого был Плиний, он бы сумел оценить происшедшее по достоинству. ** Из-за того, что я постоянно дергался, бился головой о стену и громко вопил безо всякой на то причины, в конце концов меня решили показать врачам. Они пошептались между собой о смирительной рубашке и ближайшем от нас сумасшедшем доме поспокойнее и сказали, что мненужны тишина и покой, тогда все еще может встать на свои места, их беспокоило состояние моих нервов и то, что я не такой, как другие. Таким образом, я еще раз убедился в том, что свобода не предназначена для тех, кто думает и говорит иначе, чем все, людей второго сорта, идиотов и калек. Безусловно, и я принадлежал к таким ущербным личностям, которых все стыдятся и прячут от глаз посторонних, как животных с лишней лапой, не вписывающихся в общее стадо, чтобы прихожане, выходя после службы из сельской церкви не тыкали в них пальцем; подобных уродцев следовало бы уничтожать прямо при рождении, дабы потом не мучаться и не ломать голову, как от них избавиться. Для таких существуют специальные дома, очень тихие, с решетками и стенами, обитыми мягким материалом, располагающиеся подальше от дорог, чтобы никто не слышал их воплей. Вот туда меня и поместили, где среди самой разношерстной публики, людей всех возрастов, ростов и комплекций, я обрел свою новую семью. Меня решили похоронить заживо, посчитав, что там, под присмотром белых халатов, успокоенный уколами, я в конце концов приду в норму, ибо сделать из человека идеального гражданина можно только лишив его дара речи, зрения и слуха. Однако они забыли, что в моих жилах течет непокорная кровь, и есть еще и Бог, который не бросает детей. Когда-нибудь я расскажу поподробнее о том, через что мне пришлось пройти, но не сейчас, а потом, когда буду у Последней Черты. Пламя едва трепетало, но никогда не гасло. Я был как пойманная в ловушку крыса, а по ночам, когда другие спали, я строил фантастические планы побегов за океаны и моря, туда, где земля - это вечнозеленый сад, орошаемый спокойными реками, и где обитают животные, которые любят друг друга. Раз двадцать меня ловили на улице, после того, как я пытался убежать, я бежал к вокзалу с взъерошенными волосами, в ночной рубашке, развевающейся по ветру, бежал из сумасшедшего дома в другой мир, бежал, ничего не видя перед собой, как метрвец, убежавший из своей могилы. В моем мозгу клокотали обрывки музыкальных фраз и несбывшихся надежд, и я цеплялся за двери ночи, дабы успеть в новый день, будто это и был новый сказочный мир. ** Если у животного нет хвоста, отогнать от него мух может только Господь Бог. Не доверяйте тем, кто умеет слишком хорошо говорить и во всем полагается на своей язык, ибо они вместо соболя могут всучить вам кролика, а вместо индюшки подсунуть крысу, такие любого могут заставить плясать под свою дудку. Когда опаздываешь на поезд, то хочешь только одного - чтобы он сошел с рельсов. ** На представлениях в цирке я плакал, в зоосаде я плакал еще сильнее, на детских утренниках мне было невыносимо скучно и я молча сидел в углу, но наибольшие страдания доставляли мне попытки заставить меня поиграть с товарищами. На самом деле никаких товарищей у меня не было. Больше всего я любил, оставшись в одиночестве предаваться своим мрачным мыслям и анархистским мечтаниям о том, как я взорву мир, устроив из своих товарищей и учителей огромный фейерверк. Я ненавидел школу, эту гнусную казарму, которая была хуже, чем тюрьма, всех этих бесхвостых шакалов, которые учили меня абсолютно ненужным вещам, и всех своих сверстников, особенно хороших учеников и всеобщих любимчиков, которым я завидовал. Симпатию я испытывал только к отверженным неудачникам вроде меня, маленьким недоноскам, которым лучше было бы вовсе не рождаться, уродливым, рыжим, туберкулезным, к тем, над кем все смеялись, одетым в заплатанные брюки, рваные ботинки. Я любил только тех, чьи матери были так же уродливы, как и их дети, поэтому ненавидел Дюбуа, которого у порога школы встречала вся расфуфыренная и размалеванная, как дама полусвета, мамаша, в огромной шляпе и на высоких каблуках, ничуть не меньше, чем я ненавидел Буланже, который бегал быстрее всех, лучше всех в классе играл в мяч и делал упражнения на брусьях. Не отдавая себе в том отчета, я завидовал и Дюбуа, и Буланже, мне хотелось, чтобы они исчезли, скрылись под землей, и особенно мамаша Дюбуа, которой было далеко до моей. Мысленно я неоднократно представлял себе, как эта финтифлюшка подыхает прямо у меня на глазах. Мне хотелось, чтобы однажды, при самом большом скоплении народу, в субботу, у выхода из школы, или в день первого причастия, она подвернула себе ногу и упала в канаву вместе со своей крокодиловой сумкой, белыми перчатками и серебряными лисами. Это был бы самый прекрасный день в моей жизни, за который я до конца своих дней готов был бы благодарить Бога. ** С раннего детства Жюлииус не желал считаться ни с кем и ни с чем. Он все время против чего-нибудь бунтовал. Но неужели этот революционер, всерьез думал, что наш мир должен стать помойкой? Он нарочно громко выпускал газы в церкви, так как нам сказали, что это смертный грех. Мисс Гарднер это ужасало, она краснела до корней волос и делала вид, будто ничего не слышит. Не осмеливаясь заткнуть нос, она, прикрыв лицо молитвенником, незаметно оглядывалась по сторонам, дабы убедиться, что другие семьи ничего не заметили. В Кабуре нас все знали, поэтому для нас это было бы страшным позором. На самом деле, это было и не красиво, и не смешно, но я все равно тайком смеялся и считал, что Жюлиус совершил замечательный отважный поступок. Я хорошо помню, как однажды на пляже перед полдником, она предложила ему сходить в море пописать, а потом вернуться за стол. Он сделал вид, что пописал. Она, ничего не подозревая, посадила его себе на колени и завязала ему вокруг шеи салфетку. В тот же миг он написал на ее белое платье из джерси, при этом у него был такой вид, будто он ничего не заметил, и лишь слабая улыбка в уголке его рта на его ангельском личике как бы предупреждала меня о том, что драма уже началась и я должен внимательно следить за ее развитием, чтобы ничего не упустить. Конечно, мисс Гарднер не стала кричать, так как вокруг было много семей, которые нас знали. Но зато какой у нее был вид! Она тихонько повела его мысться и окунула в наказание задом в воду, отчего он завопил так, будто его режут, потом снова вернулась и села рядом с нами на песок с отрешенным видом, но с живописным пятном на юбке, причем в самом что ни на есть неподходящем месте. Пятно бросалось в глаза и свидетельствовало об ее неаккуратности. Жюлиус придумал воистину великолепную шутку, совершив преступление, заранее зная, что в нем будет обвинен другой. *** Мы с отцом всегда путешествовали в поезде, даже если пункт назначения находился в двух шагах от нас. Он любил железные дороги, вокзалы, паровозы и вообще все, что связано с поездом, вплоть до запаха туалетов в конце коридора вагона. Он хотел бы водить поезда сам, чтобы возить только нас, Жюлиуса, мою мать, мою сестру и меня, но безо всякого расписания, с правом останавливаться, сходить с рельсов, устраивать пикники, разворачиваться, следовать направо или налево, когда захочется, даже тогда, когда рельсы ведут только прямо, в общем, обращаться с поездом так, как он обращался со своей лошадью до 14 года, когда был гусаром в 8-м полку. В поездах мы ели крутые яйца с солью и молочным хлебом. Пили и згорлышка теплый и шипевший как шампанское лимонад, передавая бутылку из рук в руки. Потом мы обязательно складывали все остатки в корзину, накрытую салфеткой в клеточку. Больше всего мне нравилось высовывать голову в октрытое окно вагона и подставлять свое лицо встречному ветру, который прерывал мое дыхание и забивал мне глаза угольной крошкой. Я вдыхал в себя запах угля и вслушивался в тяжелое дыхание локомотива. Это была жизнь, напоминавшая кино и, сам того не понимая, так я утолял свою жажду приключений. Трудно передать то чувство, которое я испытывал, когда поезд останавливался на какой-нибудь станции, всякий раз это сопровождалось суматохой, сутолокой, шумом, громкими криками начальника станции, его свистками, хлопаньем дверей и наконец, какое волнение я чувствовал, когда поезд снова трогался с места, всегда немного неловко, со скрежетом и лязгом вагонов. Мой отец смотрел на свои часы в жилетном кармане, сверяя время с расписанием, жалел, что не захватил с собой компас и вообще вел себя так, будто он знаменитый врач Шарко, что вызывало насмешки моей матери, которая всеегда покорно подчинялась судьбе. Время от времени навстречу нам проносился скорый поезд. Вот это было зрелище! В воображении сразу же возникали образы людей, которых он вез откуда-то издалека и которые говорили на незнакомых языках, сколько там было элегантных женщин и детей богатых родителей со своими нянями. Так мы запасались впечатлениями на всю зиму. Подъезжая к пункту назначения, мы начинали упаковывать вещи, одевать свои кепки, пальто и перчатки, мой отец вытаскивал чемоданы и складывал их в коридоре, у дверей. У нас было мало времени, чтобы выйти и вытащить за собой весь этот хлам, к тому же мы должны были протискиваться через толпящихся у выхода людей, у которых тоже были дети и вещи. Если мы ехали на восток, то у вокзала нас всегда ждал крайслер дяди Тома с шофером, который нес наши чемоданы, сумки и одеяла. Тут начиналось самое невероятное, нечто вроде сна наяву, но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз, пока я к этому еще не готов. *** Когда, наплевав на экологию, власти решили осушить озеро, больше всего пострадала наша семья. В самом начале осушительных работ перемены еще не бросались в глаза, и мы продолжали кататься на лодке, хотя ее дно часто скребло по песку, а вокруг чувствовался пугающий запах тины. Так как наш дом располагался на берегу озера, мы оказались вовлечены в грандиозные операции с недвижимостью, вскоре все было продано: китайская мебель, персидские ковры, пляжное оборудование, -- и естественно, за бесценок. С негодованием собрав свои чемоданы, мы уехали на поезде, с мыслями о прошлом и без каких-либо определенных планов на будущее. Мы просто возвращались в Париж, как бараны, бараны с чемоданами, вот и все. Моя мать всегда такая говорливая, тихонько плакала, на плече у нее висела огромная сумка, в которой она спрятала самые ценные вещи, иконы, серебро, деньги от продажи дома и наши пляжные костюмы. Бывают такие невыносимые моменты в жизни, когда тебе нечего сказать и слышно, как рядом с тобой дышат другие. Это всегда так ужасно, когда ты слышишь, как дышат другие. Обычно люди не слышат дыхания друг друга, оно заглушается словами и смехом. И только когда человек умирает, все внимательно вслушиваются в его дыхание. Так уж устроен мир, что многие обычные, естественные вещи напоминают о себе только в момент гибели, ведь и деревья мы замечаем лишь тогда, когда они с треском и страшным шумом валятся на землю, но до этого момента о них как-то не думаешь, а просто ходишь и наслаждаешься их красотой. Поезд сломался где-то между Мондидье-сюр-Луар и Сент-Филибер, он остановился прямо в чистом поле, где жара была просто невыносимой. Никто нчего не знал, проводники куда-то исчезли, и только тяжелое дыхание локомотива как бы говорило присутствовавшим, что он не в состоянии двигаться дальше. Как всегда бывает в подобных случаях, люди толпились у окон и задавали друг другу глупые вопросы. Мой отец тоже не знал, что случилось, но все равно старался нас успокоить. Однако после смерти озера от его былой уверенности в себе не осталось и следа. Эта история сильно подействовала на него. Наш капитан, который всегда был таким мудрым и знающим, казался утомленным. В соседнем купе везли собаку и корзину с курами. Во времена паровозов их присутствие в поездах было обычным явлением, но со временем они оттуда исчезли. Сегодня их появление вызывало бы всеобщее удивлеение, на них стали бы показывать пальцем, а в то время на них не обращали внимания. Животные хотели пить, собака высунула язык, а куры дышали так лихорадочно, что, казалось, вот-вот сдохнут. Мой отец, по доброте душевной, хотел было вытащить из сумки дорожную флягу и дать напиться собаке и курам, но моя мать неожиданно с остервенением набросилась на него, просто, как настоящая фурия, вагнеровская Валькирия. Она заставила его спрятать флягу назад в сумку, язвительно напомнив ему о том, что у него есть еще и дети, все присутствовавшие при этом одобрительно захихикали, и с жадностью проводили флягу глазами. Воду из туалетов было пить нельзя, так что если поезд в ближайшее время не тронется и жара не спадет, то ситуация могла принять весьма драматичный оборот. Наши попутчики вполне были способны убить нас из-за этой фляги. Люди с такими лицами, как у них, способны были убить и из-за меньшего. Мой брат и я не отличались особой отвагой, в наших жилах текла собачья кровь. Но мы сами были виноваты, если бы мы поступили как все, ни о чем не думали и не взяли с собой флягу, если бы не эта наша чертова предусмотрительность, мы бы сейчас не находились на грани гибели. Медленно, с жалобным стоном, так, будто все оси у него заржавели, поезд снова тихонько тронулся, и мой отец, чтобы всех успокоить, произнес свою обычную сентенцию: "Ну что ж, как говориться, тише едешь - дальше будешь!" Моя мать снова приняла свой отрешенный задумчивый вид, и только слегка повела плечами, в знак того, что она согласна с моим отцом. Все остальные не проронили ни слова, оставшуюся часть пути мы преодолели без каких-либо новых происшествий, если не считать того, что по прибытии в Париж обнаружилось, что три курицы из пяти умерли, и их смерть была на совести моей матери. Вагон мы покидали с флягой, полной воды, а все пассажиры глядели на нас и ухмылялись. Нам хотелось поскорее скрыться в метро, мы чувствовали себя убийцами. *** Дружба моего отца с профессором Карамелосом многое изменила в нашем доме. Мой отец, в общем-то, всегда уверенный в себе человек с твердыми принципами, в которых его воспитывали с самого детства, поначалу пытался противостоять сильной личности профессора, радикальные идеи которого могли бы испугать и отъявленных вольнодумцев. Рожденный в Олимпии от опустившихся родителей (его отец был извращенцем, а мать предавалась абсенту и полиандрии), Карамелос всему выучился сам, от манеры говорить до умения держаться за столом. Ибо его родители не в состоянии были научить его тому, что должен знать воспитанный и культурный человек, дабы иметь возможность приятно проводить время -- в хорошем обществе. Люди, которых плохо воспитывали собственные родители, всегда имеют склонность к воспитанию детей других. Вот и Карамелос с юности испытывал сильную тягу к образованию, что позволило ему сделать блестящую карьеру в университете, где ему поручили читать сразу несколько курсов, затем он защилит диссертацию по онанизму на кафежде международного университета в Пинкертауне, став крупнейшим специалистом в этой сфере, одновременно он был членом-корреспондентом сразу несколькииих академий и доктором honoris causa в университетах Монтаржи и Питивье. Не говоря уже о том, что он был автором фунтаментальных исследований "Онанизм в сравнительном международном праве" и "История онанизма", которые теперь считаются классическими. У Карамелоса на все были свои оригинальные воззрения, начиная с питания и сопротивления человеческого организма боли, теплу, холоду и страхам, и кончая моралью, политикой, религией, философией и историей нравов, главным для него было, чтобы его мысли отличались от того, что думают остальные, ибо он был убежден, что ближе всех к истине находится тот, кто мыслит не так, как все. Он считал, что XX век задыхается от конформизма и нетерпимости, а человечество вплотную приблизилось к окончательному маразму. Больше всего он любил обращаться к античной истории, дабы более наглядно продемонстрировать отупление масс, вырождение элиты и общую деградацию человека и человечества в сравнении с древними греками. Вторжение профессора в нашу семью главным образом повлияло на наше воспитание. До этого момента наш отец стремился научить нас думать так же, как все, ибо в таком духее его в свое время воспитывали самого, теперь же он стремительно изменил свои взгляды и, следуя главному принципу профессора, стал учить нас никогда не думать как остальные, дабы сохранить наши индивидуальности и попытаться сделать из каждого из нас единственное и неповторимое существо, а именно неких неподдающихся классификации и ни на что не годных монстров. Раньше отец все время давил на нас, теперь же он позволял нам расти, как трава при дороге, отказавшись от побоев и принуждения, и не обращая внимания на мнение окружающих. Таким образом, теперь нас воспитывали не так, как других, а совсем иначе. Если детям в школе говорили одно, что нас учили прямо противоположному, во всяком случае, в сфере гуманитарных знаний, ибо сделать круг из прямой линии или треугольник с четырьмя углами, так же, как изменить метрическую систему наш отец был не в состоянии. Он очень жалел об этом, но сделать ничего не мог, а вот с философией или даже историей он обращался свободно, в результате чего я и провалил все свои экзамены в школе. По этой же причине в конце концов я решил сосредоточиться на изучении математики и квантовой физики, о которых он ничего не слышал и изменить которые был не в силах. Чуть позже я расскажу о том, как закалялся дух, воспитывалось наше тело, о нашем физическом воспитании и режиме питания, так же оказавшихся под сильным воздействием идей профессора, которое, несмотря на некоторые издержки, лично я считаю достаточно благоприятным. Ну а что касается издержек, то, как говорится, не "помучишься - не научишься". Так продолжалось несколько лет, а затем профессор исчез, столь же неожиданно, как и появился, что с ним потом стало - никто не знает. Он отдалился от наашей семьи, куда-то стал надолго пропадать, а затем и вовсе перестал бывать у нас дома. Спустя несколько лет мы узнали, что у него в Англии были какие-то неприятности и его даже упрятали в лондонскую тюрьму "Old Bayley" за содомию, но даже если это так, это не умаляет его достоинств как воспитателя. Ведь именно ему я обязан своим железным здоровьем, которое теперь у меня есть, и то, что зимой я чувствую себя точно также, как и весной, то это только потому что, следуя его советам, мой отец научил меня с юных лет не обращать внимания на погодные условия. Для него тело было лишь инструментом духа, простым посредником. А следовательно, он учил вас делать противоположное тому, что делают другие люди, которые являются рабами своего тела вместо того, чтобы быть его хозяевами. Тело хочеть пить, и ты даешь ему пить, тело хочет есть, и ты его кормишь, ему холодно - ты его закрываешь, оно хочет спать - ты спишь, а когда оно устает, ты даешь ему отдохнуть. Действуя таким образом, ты приобретаешь самые что ни на есть вредные привычки, позволяешь ему командовать собой, распускаешь его и чем больше ты склоняешься перед его желаниями, тем сильнее они становятся. Если же дети с раннего возраста привыкают давать своему телу всевозможные упражнения и ежедневно их выполняют, постепенно они становятся способны делать с ним почти все, что захотят, гнуть его, изгибать во всех направлениях, свободно переносить всевозможные лишения, жару, холод, голод, усталость, их тело становится инструментом, в котором так нуждается разум, чтобы действовать совершенно свободно. Ключ к освобождению разума заключается в порабощении тела. В конце концов, тело начинает находить в этом своеобразное удовольствие и сладостный мазохизм и чем больше ты его принуждаешь, тем легче и свободнее оно становится, бодрое, свободное и счастливое. Что же касается духа, то освобожденный от любого физического принуждения и затуманенности, которая является их неизбежным последствием, он тоже обретает способность изменяться, проникать, путешествовать, парить и действовать так, как ему хочется, прибегая в случае необходимости к услугам гибкого и во всем ему послушного тела. Конечно, со временем кожа покрывается морщинами, все механизмы изнашиваются, волосы белеют и выпадают, зрение ухудшаетсся, слух притупляется, но свободные тела и в старости остаются королями дряхлого мира, они по-прежнему отличаются от остальных, как одноглазые отличаются от слепцов или старые волки от старых собак. По совету Карамелоса у нас дома были остановлены все часы, но не для того, чтобы остановить стремительное движение времени, а чтобы научиться ориентироваться в нем самостоятельно, вернуться к природе, уподобиться неандертальцам и отринуть от себя власть машин. Последнее желание нас вдохновляло больше всего. Мы научились определять время по солнцу и обходиться без часов, мы снова вернулись к своему первозданному состоянию и хуже от этого мы не стали. Дабы заставить свою память работать, как в доисторические времена, мы убрали все календари. Эти почтовые альманахи были нам больше не нужны, ибо мы все помнили и без них и знали, какой у нас сегодня день и сколько времени прошло после рождества Христова. В этом отношении мы на голову превзошли остальных детей, которые пользовались наручными часами и календарями. Более того, все это способствовало развитию наших животных инстинктов, в то время как у остальых их наоборот, всячески старались заглушить хорошим воспитанием. И действительно, хорошо воспитанные люди никогда не подчиняются своим инстинктам и рефлексам, а действуют в соответствии с требованиями эпохи, среды и обстоятельств. Такие мужчины и женщины, привыкшие автоматически контролировать каждый свой жест, подавлять в себе любые желания и порывы сердца выглядят крайне противоестественно. Они подобны пашинам и подвержены механическим повреждениям, в то время как у нас дома нам позволяли быть такими, какими нас сотворил Господь Бог. Мы ни в чем не насиловвали себя, в наших огромных сердцах было место для любой твари, включая пауков, чтобы азнать время и погоду следующего дня, мы обращали свой взор к небесам, и это был нормальный ход вещей, который не следовало нарушать, ибо мы получали естественное воспитание, о котором современные люди давно забыли. Кюре, который прослышал о том, что происходит в нашем доме, каждое воскресенье публично призывал нас к порядку: "Берегитесь инстинктов, -- говорил он в своих проповедях, -- это в лучшем случае ведет в исповедальню, в худшем - в суд, в тюрьму, а может быть даже и на эшафот, учитесь, братья мои, усмирять свои инстинкты, опасайтесь их, как холеры, живите не как животные, но как дети Бога, по принципам святого Евангелия." Так пытались потревожить наше тихое болото, причем не просто легким касанием кончика туфли,а тяжелым сапогом деревенского кюре. В конечном счете, он предрек нам ад, в который мы должны были попасть, пройдя через местный централ и гильотину, столь ужасная перспектива леденила души прихожан и заставляла думать, что Бог создал человека по образу дьявола, и только для того, чтобы доставить удовольствие духовенству. Если бы наш школьный учитель не был атеистом и республиканцем, то прийдя на воскресную мессу, он бы, вероятно, получил истинное наслаждение от этих потоков слов, но Жюль Ферри в церковь не ходил. Что ж, тем хуже для него. Наша семья выходила с мессы с высоко поднятой головой. В соответствии с принципами нашего воспитания, мы должны были идти не вдоль стен, а прямо по середине улицы, где мы шествовали за своим отцом, как утки за селезнем, во всяком случае мы не обтирали трусливо стены, как воры, и у нас не было чесотки. Мы чувствовали себя истинными сынами Бога, впрочем и другие были такими же, но они меньше отдавали себе в этом отчет. Лично я в этом не сомневался и в душе гордился этим, остальным же, даже если они и не были полным ничтожеством, было до нас далеко. *** В своем стремлении воспитать нас не похожими на других наши наставники зашли столь далеко, что требовали от нас, чтобы мы свою агрессию обращали на самих себя, а с посторонними, наоборот, вели себя дружелюбно. Естественно, человек, находящийся в ссоре с самим собой, рискует весь день ничего не делать, а только лежать и спать. Приветливость по отношению к другим, безусловно, более разумный принцип поведения, чреватый, однако, чрезмерной от них зависимостью. Порой нужно уметь выйти, взять булыжник и бросить его в морду ближнего. Именно поэтому, вопреки воле моего отца, я всегда предпочитал держаться от окружающих подальше. Любое высокоорганизованное общество, особенно демократическое - это джунгли. Ибо в джунглях царит порядок, не допускающий ни малейшей анархии. Хозяином там является самый сильный, тот, кто послабее, пожирает еще более слабых, чем он сам, ну а полным иидиотом остается есть траву. Поэтому надо постоянно быть начеку и пожирать другихх, иначе сожрут тебя самого. Можно, конечно, отмахнуться от правды и принять общепринятую мораль, смешавшись со стадом, начать покорно отгонять от себя блох и смахивать пыль, или же наоборот, презрев приличия, послать подальше всех этих профессоров и судей. Тогда можно вздохнуть свободно и спокойно есть траву. *** В соответствии с теорией, что маленький микроб прогоняет большого, нашей кухарке были даны указания не чистить и не мыть овощи. Как только слухи об этом дошли до наших соседей, они стали отдавать нам свои очистки и часть хозяйственных отходов, которые всегда с радостью принимали у нас в доме. Моя мать подозревала, что отец по ночам сам ходил рыться в мусорных бачках, хотя этот факт ни разу не подтвердился. Впрочем, вскоре, когда многие живущие неподалеку семьи начали нам подражать, в мусорных баках уже нечего стало искать. Популярность очистков возросла настолько, что их попросту перестали выбрасывать. Видя, что мы прекрасно растем и развиваемся, многие начали интересоваться у родителей, каковы секреты нашего столь превосходного здоровья. Информация растекалась, как масляное пятно по воде, и вскоре вся община объединилась вокруг нашего дома, а отец стал ее первосвященником. Правда, до конца всего никто не знал. Мы были предусмотрительны и не собирались рассказывать все, что происходит у нас в доме. Какой-нибудь дурак по глупости мог наболтать лишнего в полиции, а нас были бы неприятности. Что касается очисток, то с ними как раз все было довольно просто: вреда они никому не причиняли, а пользу от них можно было даже научно обосновать. Витамины ведь находятся не в той части овощей, которую едят, а в той, которую выбрасывают: в очистках моркови, картофеля и в капустных кочерыжках. Как только об этом все узнали - отбросы практически исчезли. Во всей округе стало невозможно найти ни одной кочерыжки, ни одного очистка. Но потом люди стали набрасываться на лежалые продукты, на протухшее мясо, прокисшее молоко и гнилую рыбу, и все из-за их антибактериальной ценности, поставив тем самым под угрозу существование современной фармакологии. Прежде чем есть продукты, люди ждали, пока они изменят свой цвет, появится плесень, начнутся гнилостные процессы, а оттуда, где они хранятся, начнут доноситься специфические запахи, и конечно же, перед употребленем продукты обливались болотной водой. Наша община никому не причинила вреда, мы вели мирный образ жизни, платили налоги, никому не мешали, и все это продолжалось бы вечно, если бы у Жан-Поля Жолибуа, сынка отставного железнодорожника Северных путей не проступили бы вдруг на лице отвратительные коричневые пятна, после чего его пробрали такой понос и такая ужасная рвота, каких еще никто никогда не видел. "Вот свинья, -- сокрушался мой отец, -- теперь из-за него неприятностей не оберешься!" Ведь всего один грязный вонючий ублюдок, вроде этого Жолибуа, способен был скомпроментировать наш уникальный научный эксперимент, отбросить нас во времена Пастера, к допотопным представлениям о диетическом питании. В субботу вечером, когда мы увидели, как прибывает "скорая помощь", мы поняли, что Пастер победил и что скоро к нам явятся жандармы. Никогда не забуду, как эти палачи в фуражках и грязных сапогах ввалились к нам, оставляя следы на наших начищенных полах и восточных коврах, эти злобные тупые инквизиторы грозили нам тюрьмой, ссылаясь на неоказание помощи лицу, находящемуся в опасности, непреднамеренное убийство, а так же нелегальное занятие медициной и плохое обращение с детьми. Я сразу же заявил, что мы очень счастливы, не хотим есть ничего другого, нам нравится бегать голыми по снегу и вообще, все у нас хорошо и мы ни у кого ничего не просим. Кажется, главного среди них это впечатлило. И действительно, мы излучали здоровье. А сами они, прыщавые, раздувшиеся, как сосиски, с налитыми кровью красными лицами выглядели далеко не стольк здоровыми, как мы. Мы предложили им устроиться поудобнее, расстегнуть куртки, расслабиться, снять сапоги, чтобы дать отдохнуть и подышать ногам. Они недоверчиво смотрели на нас, не зная, как реагировать на наши предолжения: как на оскорбление чиновника при исполнении служебных обязанностей или как на проявление гостеприимства. Наконец, поняв, что им никто не желает зла, они скинули с себя фуражки и куртки, а один даже снял сапоги. Мы угостили их отваром из желудей с бергамотом, который им очень понравилсяя, после чего мы смогли спокойнее рассказать о нашем воспитании, разъяснив некоторые его особенности, правда, кое о чем мы все же предпочли умолчать. Главный позвонил прокурору Республики, дабы обсудить с ним распоряжение об аресте отца. Да, да, господин Прокурор, они действительно все полуголые в неотапливаемом доме. Они ничего не ели со вчерашнего вечера, но они не голодны. -- .... -- Нет, нет, господин Прокурор, тут нет дурного запаха, не больше, чем в любом другом доме. --- .... Никак нет, господин Прокурор, ни у детей, ни у женщин следов побоев нет. У них у всех совершенно счастливый и здоровый вид. Папаша слегка с приветом, но не более того. --- ... Обыскав дом, жандармы застряли в коридоре возле подвешенных там огромных крючьев и стали донимать нас вопросами, зачем здесь эти крючья и не готовимся ли мы к коллективному самоубийству а-ля Геббельс. Мы молчали, так как объяснять что-либо им все равно было бесполезно - они ничего не понимали и принимали нас за сумасшедших. Имеющий уши да услышит, тот же, кто ничего не хочет слышать и понимать, пусть остается в своем неведении, ему уже ничем не поможешь. Бессмысленно им было объяснять, что тело это огромный замкнутый сосуд, внутри которого постоянно совершается кровообращение. Из-за своего веса кровь имеет тенденцию опускаться вниз, несмотря на то, что сердце разгоняет ее во всех направлениях. Оттого, что человек обычно стоит или сидит, в ногах скапливается больше крови, чем в голове. Чтобы облегчить кровоснабжение головы, нужно как можно чаще опускать ее вниз, а ноги поднимать вверх, и проще всего это сделать подвесив себя за ноги. Вот для этого тут и были крючья, ибо на них мы обычно подвешивались, дабы орошать кровью свои мозги, зубы, волосы, уши и глаза. Подвешивая себя за ноги, глухие могли бы вернуть себе слух, лысые - волосы, слепые - зрение, а идиоты, соответственно, стать умнее. Более того, мой отец понимал, что не только кровь, но и наиболее весомые идеи задерживаются в ногах, вместо того, чтобы подняться в мозг. Он не сомневался, что достаточно перевернуть тело, наподобие песочных часов, и человек вместе с кровью ощутит в голове настоящий наплыв идей; теория в научном отношении весьма спорная, но нам она нравилась, так как делала нас еще более непохожими на остальных. Впрочем, все это не мешало самому моему отцу ни тихо лысеть, ни быть тугим на одно ухо. Самое важное в любых теориях - это вера в них. Необходимо верить в достоверность того, что пишешь, так же как в то, что твоя деятельность имеет ценность для других и ты движешься в нужном направлении. На этой вере и основывалось наше висение вниз головой и наша теория песочных часов!. Слезая с крючьев, мы устремлялись к своим тетрадям, дабы успеть записать пришедшие нам в голову мысли, пока они снова не ушли в ноги. Столь необычное времяпрепровождение делало нашу юность по-настоящему прекрасной! Мы въезжали в жизнь в золотой карете, а головы наши были среди звезд. Мы чувствовали себя королями мира. *** Эти чертовы куски постепенно отрываются один за другим и падают в бездну, как камни с древних скал. Когда-нибудь все они окончательно исчезнут вместе со мной. Так уж заведено, что от этих прелестных воспоминаний, крупных огорчений и маленьких радостей, сопровождавшихся взрывами смеха и потоками слез, всех этих головокружительных взлетов и падений, без которых не обходится ни одно детство, когда-нибудь не останется и следа. После моего ухода сохранятся только эти пожелтевшие фотографии и старые фильмы, но кто сможет узнать на них меня? Маленький желтый мальчик в купальнике на пляже, с волосами, вьющимися как у девочки, стоит рядом с красивой женщиной, вероятно, его матерью. Чуть дальше - два мужчины в купальных костюмах, похожие на цирковых борцов, ну а совсеем вдалеке - другие дети, играющие в песке, и прохощие, прогуливающиеся по мосткам в летних нарядах. Как это огромно и, вместе с тем, ничтожно! С появлением кино все начали двигаться, все эти марионетки оживают. Их всех заглатывает камера, эта машина способна победить время и оживить мертвых, которые снова ходят по мосткам, радуются хорошей погоде, последним дням отпуска и приливу. Моя мать, вся такая красивая и сияющая, снимает свой пеньаюр и идет купаться, она уплывают далеко в море, до самых кораблей, потом возвращается к нам и снимает свою купальную шапочку. Чтобы согреться, в кабинке для переодевания она выпивает рюмку очень сладкого вина с апельсиновой кожурой, которое моя бабушка приготовила специально для купальщиков, потом мы собираем свои игрушки, закрываем кабину и возвращаемся на виллу ужинать и мыться. Какая простая была тогда жизнь! Дни шли своей чередой, и никому из детей даже в голову не могло прийти, что все они находятся у самого конца мира, который вскоре будет полностью уничтожен войной. *** Война застигла нас в Кабуре, в день нашего первого причастия. Для детей нашего возраста это слово было лишено всякого смысла, хотя наши родители все время про нее говорили, постоянно в своих разговорах склоняя на все лады имена Гитлера, Гамлэна, Даладье, Петэна, Муссолини, Лебрена, Эдена и других, которые появлялись и исчезали за семейным столом, как появляются и исчезают марионетки на сцене. Полишинель отлупил жандарма, который в свою очередь отлупил Полишинеля, и не более того. Конечно, мы уехали из Парижа в Нормандию, где каждое воскресенье по радио слушали проповеди монсеньера Барано из Нотр-Дама, имя которого в моем детском мозгу невольно вызывало образ некоего священного барана, стоящего посредине собора в нимбе из солнечных лучей, падающих на него через витражи. Тетя Урсула рассказывала нам о Первой мировой войне и о войне семидесятого года. Стоило ее как следует попросить, и она начинала рассказывать об Аустерлице и крестовых походах. Косвенным образом мы тоже были участниками начавшегося сражения, так как мсье Пено пригласил нас с Жюлиусом в свой хор, где мы пели "В поход на Лотарингию" и "Линия Зигфрида будет нашей". Слова этих песен вселяли в нас уверенность в победе. Под конец все присутствовавшие в зале вскакивали со своих мест и начинали петь "Марсельезу". Я чувствовал себя сыном Отчизны, слышал стоны вражеских солдат и видел, как их нечистая кровь обагряет борозды наших полей. Мы пели о том, что линия Зигфрида будет нашей, а в это время боши переходили линию Мажино. В день первого причастия я был в форме Итонского колледжа в белых перчатках, с молитвенником в левой руке, на которой была повязана белая повязка, и со свечой - в правой. Если в христианстве был когда-либо хоть один святой, то это, вероятно, был я в этот день, настолько я верил в Бога, настолько был чист душой и телом, и готов отправиться на небеса к ангелам. Без малейших колебаний я бы поднялся вместе с Жанной д Арк на костер, позволил проткнуть себя стрелами как святой Себастьян или отдал свое тело на растерзание львам, настолько в то мгновение я верил, что получу свое место в раю и воскресну по правую руку от Господа. Как назло, воск стекал с моей свечи прямо мне на перчатку, на рукав и на брюки. Но я все равно был на седьмом небе от счастья, хотя саму церемонию мне сильно подпортило ужасное желание сходить по нужде, а в довершение всего в самый ответственный момент я уронил молитвенник и на некоторое время застыл в нерешительности, не зная, что нужно сделать сперва: поднять его или принять гостию. В результате я сильно покраснел и чувствовал себя униженным, а веры у меня сильно поубавилось. По окончании мессы народ повалил на улицу, где стояла прекрасная погода, отчего шляпы прихожан вращаясь на солнце, как фонарики, придавали церковной паперти еще более праздничный вид и как бы приветствовали причащающихся, облаченных в девственые платьица, полу-сестер, полу-невест. Я же думал только о том, как бы пописать, и искал для этого укромный уголок, а между тем наши знакомые без конца предлагали мне сфотографироваться то с одним, то с другим, и отвязаться от них я не мог. Именно в тот момент, когда меня в очередной раз снимали, над нашими головами показались автожиры французской авиации. Все замаххали им руками, восторженно приветствуя этих странных насекомых, предков современных вертолетов. Вдруг праздник превратился в языческую оргию, все стояли, задрав головы к небу и орали: " Да здравствует армия!" Снова забрезжила надежда. Быть может, мы еще выиграем эту дерьмовую войну и вышвырнем фрицев ником под зад вон, но тут раздался какой-то странный свист, за которым последовал страшной силы взряв, бомба разорвалась где-то неподалеку от мэрии и школы. И вот уже папа, мама, причающиеся, их родственники, бабушки, священник и дети из хора дружно повалились на землю и уткнулись носом в траву. Ах, что творилось вокруг! Я видел задравшиеся юбки и ляжки добропорядочных женщин, которые кувыркались на земле, среди прочих я даже успел заметить зад тети Урсулы и моей кузины (последний, впрочем, я уже видел раньше). Когда автожиры улетели, и все кое-как поднялись, стал ясно, что праздник кончился. Так как убитых не было, пересчитали живых. Правда, школа все же пострадала. Позже мы узнали, что взорвалась бомба, которая была плохо закреплена на автожире. Священник не упустил случая заявить, что произошло чудо, ибо в день первого причастия школа оказалась пуста: все были в церкви. А по сему: если бы люди чаще ходили в церковь, войны были бы не столь опустошительны. Для меня в этот день игрушечная война закончилась и началась настоящая. Конечно, она была менее смешной, но мы все равно неплохо повеселились. *** Эта проклятая война проходила без труб и барабанов. Просто у нас не было времени, чтобы трубить в фанфары, распространять фальшивые коммюнике, объявлять о фальшивых победах, поздравлять своих героев и награждать своих маршалов. Все сразу же наделали в штаны: и депутаты, и министры, и генералы, и папы, и мамы, и бонны, и дети. В общем, от всего этого очень дурно пахло всеобщим разложением и предательством. И старики, и молодежь выглядели одинаково дряхлыми и ни на что не годными. Настоящих же самоотверженных патриотов вроде тети Урсулы можно было пересчитать по пальцам. Будь в распоряжении тети Урсулы хотя бы два или три полка, несколько танков и самолетов, она бы в два счета выгнала бошей, вытолкала бы их из Франции взашей. От нее бы не ускользнул ни Гамелэн, ни Блюм, ни Даладье. Она бы их всех сразу же расстреляла. Она-то уж знала, как навести вокруг порядок и устранить все имеющиеся неполадки и помехи. Она ходила с таким видом, будто собирается расстрелять толпу из пулемета. В ней явно погибла первоклассная трагическая актриса. Голова Даладье - на одной пике, голова Гамелэна - на другой, и оп, мы едем на Кабуру, гнусавя походную песню. За нами бегут толпы людей, молодых, старых, даже женщины и собаки. В окрестных полях кузнечики устроили в нашу честь настоящий концерт. Толпа вооружается и с диким ревом кидается на восток. По дороге мы подбираем всех попавшихся нам навстречу людей и формируем из них новые батальоны. Немцы бы сразу струсили, увидев такое, они же только и умеют, что жрать свой шу-крут, они бы мгновенно отправились восвояси, а мы бы освободили родину от этой канальи, и никакие американцы нам для этого бы не понадобились. Вот тогда мы бы повсюду восстановили монархию и вернули кюре их влияние в обществе. Короче, мы бы выполнили свою историческую миссию. В детстве война кажется праздником: не скучно, столько случаев посмеяться, посмотреть на людей, каждую ночь переезжаешь на новое место жительства - в общем, ведешь жизнь циркового артиста. Честно говоря, я всегда страстно любил цирк. Я бы хотел, чтобы мать работала с лошадьми, мой отец был укротителем, а я сам - юным акробатом, Моцартом трапеции. К сожалению, мой отец на укротителя был явно не похож: если бы ему пришлось войти в клетку с дикими зверями, его тут же бы сожрали. А вот моя мать просто была создана для работы с лошадьми. Она бы и львов могла дрессировать. С такой осанкой - и с таким властным характером, как у нее, она бы, я думаю, их сразу же себе подчинила, причем даже не повышая голоса. Властностью веяло от самого ее облика, так что шутить с ней, а тем более ей перечить, не рекомендовалось. Не только львы, но и медведи ходили бы у нее по струнке. Да что там говорить, она и диплодоков способна была заставить танцевать менуэт и петь хоралы Баха - ничего подобного в цирке еще не видели, но ей это было по плечу. Вместе с тем, в ней было столько грации и очарования, что птицы часто клевали у нее с руки и даже если бы она стала укротительницей, больше всего ей подошло бы работать с лошадьми, ибо рядом с ними она смотрелась эффектнее всего. Ну а из моего отца, если уж на то пошло, пожалуй, вышел бы неплохой клоун. Используя свои способности к музыке, он мог бы сыграть и на аккордеоне, и на рожке, а поскольку он еще умел неподражаемо шутить, кривляться и падать, то успех у зрителей ему был гарантирован. Впрочем, своим светским знакомым, я предпочитаю говорить, что из него вышел бы прекрасный укротитель, ибо это выглядит более мужественно и благородно. В некоторых случаях нужно уметь лгать, причем ложь должна быть хорошо продуманной, тщательно выверенной и не противоречащей здравому смыслу, такой, чтобы правда рядом с неей казалась лживой, гротескной и нереальной. А я бы был акробатом и выступал с маленькой девочкой моего возраста, хрупкой очаровательной блондиночкой. Барабанная дробь смолкает и в наступившей тишине мы вдвоем в свете прожекторов выходим на середину арены. Затем мы на маленьких серебряных трапециях поднимаемся под самый купол цирка и начинаем, изгибаясь по-кошачьи прыгать с одной трапеции на другую в ослепительном свете пытающихся угнаться за нами лучей прожекторов. Это было бы восхитительное зрелище. И Жюлиусу тоже нашлось бы место в цирке. Просто в любом обществе должны быть и бедные, и богатые, иначе нет никакого смысла быть богатым. Так уж устроен этот мир, что всем в нем хорошо быть не может. Я был бы маленьким акробатом, всеобщим любимцем, а Жюлиус - мальчиком на побегушках, и это было бы справедливо. Много лет спустя, я действительно стал заниматься акробатикой, научился ходить по канату. После этого многое мне стало казаться сущим пустяком. Детей следовало бы сначала учить ходить по канату, тогда бы и по земле люди стали перемещаться с поразительной легкостью, не ковыляли бы кое-как, с трудом волоча за собой ноги, а ходили бы упругой элегантной стремительной походкой. И ноги бы у них были стройными и сильными, в общем, такими, какими они и должны быть. *** Все лавки на улице у моря были забиты всевозможными пляжными принадлежностями: мячами, соломенными шляпами, купальными костюмами, лопатками и ведерками для песка, полотенцами, шапочками и солнечными кремами. Дети любят рассматривать эти предметы, так как они напоминают им о счастливой поре каникул, с которыми им всегда так не хочется расставаться. Мои каникулы в сороковом начались под стук кованых сапог. Никогда раньше я не видел такого скопления баскских беретов, как в июне сорокового года. А сколько было повсюду маленьких французских флагов и людей в военной форме! Все это должно было свидетельствовать о боевом духе французской нации. У всех были повязки, военные ботинки и прически, гетры цвета хаки, портупеи, патронники без патронов и противогазы - такова была мода. Обыватели насвистывали бравые военные марши, постоянно передававшиеся по радио, упивались лозунгами и лживыми новостями, а сами с ужасом вглядывались в конец улицы, не появились ли там первые представители Вермахта. Всем повсюду мерещились шпионы, опасаясь их, люди старались никому ничего не говорить. Недаром ведь правительство заявило, что и у стен есть уши? Детям запретили подбирать конфеты на улицах, так как они могли быть отравлены, ведь немцы могли специально разбрасывать их по городу, чтобы уничтожить французскую молодежь. Брать конфеты от незнакомых людщей нам тоже не разрешалось, ведь любой незнакомец мог оказаться шпионом. Шпионы были за каждым деревом, в каждой деревне, они терлись повсюду, в мэрии, в школах, на вокзалах, особенно среди представителей городской администрации. Таким образом, всем надлежало быть бдительными, повсюду царили подозрительность и психоз. Нужно было постоянно быть начеку и внимательно следить за окружающими, при этом рот следовало держать на замке и конфет ни от кого не брать, а вот военные марши, надев баскский берет, насвистывать было можно, отчего постепенно начинало казаться, что ты действительно участвуешь в войне и защищаешь родную территорию, как новобранцы времен Первой республики. Ночью перед отъездом тетя Урсула напялила на себя свой фланелевый пояс в который зашила золотые луидроы и монеты по двадцать долларов США. А из золотых слитков она сделала себе нечто вроде жилета, подвесив их себе над поясницей и под грудью, а так как для всех их места не хватило, она подвесила их себе еще на спину и вдоль бедер. После этого тетя Урсула стала стоить целое состояние, а весить 140 кило. Самостоятельно передвигаться она больше не могла, так как ноги ее не держали, ведь в руках у нее были еще две огромные кожаные сумки с серебром и драгоценностями, не говоря уже о перстнях на всех пальцах и деньгах, спрятаннах на груди. Если бы она упала, ее бы пришлось поднимать вчетвером. Но зато теперь все ее тело, кроме головы, было отлично защищено от пуль и осколков картечи. Всем вместе, моему отцу, матери и служанкам с большим трудом удалось усадить ее на заднее сиденье ситроена. Ее посадили посередине сиденья, чтобы машина не перекосилась. Однако она заняла все заднее сиденье, и туда не мог больше сесть никто, хотя в руках у нее были только сумка и противогаз. На колеса машины было страшно смотреть: не предназначенные для таких нагрузок шины все сплющились, и стали напоминать гусеницы танка. В таком виде нас могли засечь бомбардировщики. Мы подвергали себя серьезному риску. Мы медленно тронулись вдоль берега, стараясь не перевернуться на поворотах. На спусках машина притормаживала, иначе она бы помчалась вниз со скоростью болида, к тому же моя мать, которая вела ситроен, не имела разрешения на вождение тяжело груженого транспорта. Мы ехали друг за другом, потушив фары, пежо, который вел мой отец - впереди, ситроен - сзади, у обеих машин на крышах были матрасы, так как мы не хотели отставать от других. Все наши сограждане везли с собой матрасы: не ковры, не перины, не подушки, не одеяла, а именно матрасы. И так как их невозможно было нигде разместить, кроме как на крыше машины, их использовали в качестве защиты от воздушных налетов. Если бы боши напали на наш караван, то матрасы укрыли бы нас от обстрела. Вот такая военная хитрость. Гитлеру и его генералам наверняка ничего подобного и в голову не могло прийти. Вот она, система "ниппель", на фоне которой меркнут и линия Мажино, и все другие оборонительные стратегии вместе взятые. Мы гордились своими матрасами, способными сдержать наступительный порыв Вермахта, так французская хитрость сокрушала бронированные дивизионы Гудериана. Пусть знают, что они имеют дело с французами, которые еще себя покажут. Из Кабура мы выехали в два часа ночи, светила полная луна и дул попутный ветер, аа в Луаре мы были уже в полдень, благополучно миновав все заторы при проезде через деревни, мосты и перекрестки. *** Можно ли найти для ребенка более увлекательное занятие, чем бегство? Никогда еще дороги Франции не были столь живописны. Стояла прекрасная погода, это был настоящий праздник, повсюду мы встречали своих знакомых, старых друзей, приобретали новых, а как забавно выглядели машины! Множество клеток с птицами, попугаями, чижами и другими животными, огромное количество маятников, детские игрушки, велосипеды, на которые сверху были навалены меховые пальто, вечерние платья, шляпки, пылесосы, холодильники, зеркала и какие-то невообразимо жуткие картины! Сломанные машины тоже были, одни стояли на обочине, другие валялись в канаве и коптились на солнце, в общем, были машины на любой вкус, в том числе и такие, у которых уже кончился бензин, как правило это были те, что приехали издалека, например, из Бельгии. К полудню мы останавливались, чтобы перекусить и охладить двигатель. Тем временем мимо нас нескончаемым потоком проезжали машины, телеги, повозки, которые мы потом к вечеру опять обгоняли. Моим отцу и матери, которые в любой обстановке продолжали оставаться господами, прислуживали служанки, они же подавали сандвичи и тете Урсуле, сидевшей в ситроене, который та не хотела покидать из страха, что снова туда она уже не сможет забраться. От жары она так раздулась, что стала напоминать огромный монумент. Еды было не особенно много, но зато выпить было у всех, и все учтиво угощали друг друга. "Не хотите ли немного порто?" "Попробуйте мой Сент-Эмилион, и скажете мне, каков он на вкус." "Не желаете ли по стаканчику коньяку, дорогой друг?" В такую жару аперитивы, вина и ликеры поднимали настроение, люди начинали говорить и смеяться все громче и громче, хлопать друг друга по спине, в общем, вокруг воцарялась замечательная атмосфера, как на пикнике, и, несмотря ни на что, все снова начинали верить в победу, на сей раз этому способствовал коньяк. Но стоило за лесом послышаться гулу самолетов, как сразу же воцарялась полная тишина, от только что царившего кругом веселья не оставалось и следа, все падали ничком на траву и лежали, уткнувшись носом в землю, до тех пор, пока пара самолетов с адским шумом не проносилась над нашими головами на бреющем полете. Вот так бесславно заканчивались подобные пикники, все стремительно залезали в свои машины и отправлялись в южном направлении, о победе больше никто не говорил, все думали только о том, как бы поскорее унести отсюда свои ноги. Из машины все выглядит совсем иначе. Проносящиеся мимо окон деревья, дом и деревни, напоминают годы человеческой жизни. Только что шел дождь, и вот уже снова светит солнце, за каждый подъемом следует спуск, мимо проносятся километровые столбы, маленькие городки и большие города, которым не видно конца. А машина едет все дальше и дальше, мимо мэрий, мимо площадей с церквями, мимо равнодушных и испуганных людей, мимо животных на лугах, мимо лесов и полей, потом снова мимо лесов и снова мимо полей. Ребенок не в состоянии долго следить за этой бесконечной сменой картинок за окнами, это непоминает кино, но немое, движущиеся фотографии. Нечто подобное видят и птицы, только им все это видно гораздо лучше, они смотрят на мир сверху, скользя по воздухху параллельно земле, едва шевеля своими крыльями. Когда они устают, они замедляют свой полет и отдыхают, как правило, сидя на телефонном проводе. Оттуда они наблюдают за проезжающими по дорогам автомобилями и работающими на полях человечками, на которых они по-прежнему смотрят сверху вниз. Птицы бывают перелетными и оседлыми. В принципе, оседлые птицы никуда далеко не улетают, но это не так важно, ведь птицы все равно делают то, что хотят, неходятся они в стае или летают в одиночку, они всегда свободны. Лежа в травее, я готов часами смотреть на пролетающих надо мной птиц, я люблю дальние странствия и эти стаи, рассекающие небеса, напоминают мне поезда, рассекающие поля, но более свободные и стремительные, они уносятся вдаль, за горизонт, к пескам и пальмам, а я остаюсь здесь лежать на спине. Одни птицы улетают, прилетают другие, я слышу как где-то неподалеку в деревне звонит колокол, а совсем рядом у меня над ухом жужжит оса, слышу, как громко стучит сердце у меня в груди, и, закрыв глаза, на мгновение представляю, будто я умер. На Луаре мы задержались недолго, так что в замке нам толком пожить не удалось. "Мы сделаны из другого теста", -- все время твердила тетя Урсула, -- "нас так легко не испугаешь!" И хотя испугать нас было и нелегко, тем не менее, беженцы с Севера, особенно бельгийцы, рассказывали о немецкой оккупации настоящие ужасы. "Прийдя в деревню, первым делом они ее сжигают, затем убивают все, что движется, в том числе и детей. Например, в Льеже они расстреляли пятнадцать детей, от десяти до четырнадцати лет, всех мальчиков, а девочек того же возраста все изнасиловали. А вот в Намюре они развлекались, насилуя женщин восьмидесяти лет и старше. Собак они сажают на кол, а потом с наслаждением наблюдают, как те мучаются. И это еще далеко не все, что они вытворяют." Мой отец говорил, что не нужно верить бельгийцам, так как они, готовы трепаться до посинения лишь бы только чем-нибудь поразить толпу и испугать детей. Тем не менее, вскоре мы оставили Луару и двинулись в направлении Гаронны и Бидассона. Тете Урсуле уже порядком надоело тащить на себе все эти вериги, она предпочла бы путешествовать налегке, в одном ситцевом платьице, с весьма смелым для женщины ее возраста декольте. Без своей брони, с открытой грудью и развевающимися по ветру волосами, она еще была очень и очень ничего, особенно когда пользовалась косметикой и обматывала вокруг шеи розовое боа. На скорости боа эффектно шелестело на ветру. Перед самым въездом в Ангулем наш ситроен загорелся. Сперва мы заметили лишь слабый дымок, как бы лениво и нехотя струившийся из капота, но потом вдруг сразу весь мотор внезапно воспламенился, и к небу взметнулись огромные языки пламени. И тут, справедливости ради надо сказать, все проявили необыкновенную смелость: тетя Урсула, мама, папа и служанки. В ход были пущены одеяла, земля, бутылки вина, которое лили прямо на капот, и в два счета пожар был потушен. Одна служанка обожгла себе руки, и тетя Урсула сразу отведя ее в сторону, начала бормотать над ней заклинания, производить какие-то каббалистические манипуляции, наподобие тех, что приняты в племени сиу, а в заключение она, как колдунья, еще несколько раз к ней прикоснулась. После этого служанка заявила, что все прошло и ей больше не больно. Теперь можно было ехать дальше. Тетя Урсула объясняла столпившимся вокруг зевакам, что это семейный секрет, который со времен Людовика XI передается в нашем роду через женщин. Как Христос, взявший на себя все грехи мира и только что изгнавший из одержимого дьявола, тетя Урсула, казалось, была отуплена болью, которую она только что изгнала из служанки. Она пребывала в прострации всю оставшуюся часть пути и не промолвила ни слова до следующего утра. Конечно, она ни на секунду не забывала об отступлениях нашей армии, в горле у нее постоянно стоял комок, я видел, как глубоко запали ее глаза, позеленело лицо, поредели волосы, а кожа покрылась многочисленными морщинами. Разгром и бесчестие наших войск подтачивали ее изнутри, она думала и говорила лишь об этом, ведь она еще помнила Первую Мировую, когда сама была санитаркой. Это было время разрухи и ожесточенных сражений за каждую мясную лавку, но тогда твоя молодость была хоть кому-то нужна, ибо ее можно было отдать в сражении за родину, пожертвовать собой в борьбе со злом. Унижение Родины она воспринимала, как свое собственное, обвиняя во всем масонов и падение нравов, наступившее после победы 1918 года. Всеми фибрами своей души она ненавидела германию, которой не могла простить ни поражения в войне, ни неудачно, на ее взгляд, подписанного мирного договора. Казалось, ее в равной мере не устраивало в немцах и то, что они вернули нам Эльзас и Лотарингию, и то, что они забрали их у нас в 1870 году, ибо побежденных можно ненавидеть ничуть не меньше, чем победителей, наподобие того, как герой одной популярной некогда пьески любил человека, которого спас, а того, кому был сам обязан жизнью, терпеть не мог. *** 17 июня 1940 года, около полудня, мы въехали в Марманд, наши силы были на исходе, так как всю предшествующую ночь и утро следующего дня мы провели в пути. Мы поставили обе свои машины перед таверной на окраине города, где собирались слегка перекусить. Всей полнотой информации о событиях в мире этим утром мы не располагали, если не считать услышанного нами по радио сообщения о том, что премьер Поль Рейно ушел в отставку, и президент Лебрен поручил маршалу Петэну сформировать новое правительство. Заказав себе несколько тарелок супа и немного ветчины, мой отец отправился разузнать подробности. Радио находилось на первом этаже перед выходом из таверны, где уже стоял ветеран 14-го года, облаченный в голубую военную форму и с крестом на груди. Когда туда пришел мой отец, тетя Урсула, пара бельгийских беженцев, двое или трое каких-то зевак, Жюлиус и я тоже были уже там. Ровно в 12 с половиной часов пополудни объявили, что сейчас маршал Петэн выступит с заявлением. И вот что мы услышали: "С тяжким сердцем я вынужден сказать вам сегодня: сложите оружие. Прошедшей ночью я обратился к противнику с предложением положить конец вражде, дабы мы могли, не роняя своего воинского достоинства, с честью выйти из этой схватки. В этот трудный час все французы должны сплотиться вокруг правительства, которое я возглавляю, чтобы вновь пройти через тяжкие испытания, которые нам еще предстоят, не впадая в отчаяние и не теряя Веры в судьбу Родины." Тут я заметил (эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами), как мой отец, сидевший на улице на чем-то вроде каменной тумбы, вдруг обхватил свою голову руками и заплакал. А между тем, многие дураки вокруг нас радовались, я сам слышал, как они говорили, что теперь война кончена, скоро начнется демобилизация и все они отправятся по домам. Сам я еще плохо понимал, что происходит, но мне было грустно, потому что в первый раз в своей жизни я видел, как плачет мой отец. Потом от тихо заговорил, обращаясь ко мне и Жюлиусу, причем так, будто мы были уже взрослыми людьми. Он объяснил нам, что Франция проиграла войну, но бывший триумфатор Вердена готов поднять упавший факел и наша несчастная Родина еще возродится. В связи с тем, что больше спешить было некуда, мой отец объявил, что он снял для нас здесь комнаты и после обеда мы можем идти спать. Все сидели, униженно уткнувшись в свои тарелки, и молчали. Тетя Урсула стала белой, как снег, взгляд у нее был воспален, а волосы вздыблены, как у безумной. Видно было, что ее постиг ужасный удар. Она сидела, плотно стиснув зубы, не притрагиваясь ни к супу, ни к питью, хотя жара стояла невыносимая. Я видел, как под прилипшим к ее кожже корсажем вырисовывется ее пышная грудь, которая лихорадочно поднималась и опускалась в такт ее дыханию. Она, наверняка, много плакала, об этом можно было догадаться по ее заложенному носу и маленькому платочку, который она нервно теребила в руках. Внезапно она резко, как пружина, вскочила из-за стола и, не говоря ни слова, отправилась в свою комнату. Воцарившаяся за столом тишина нарушалась только гулом проезжавших мимо машин, шумом на кухне и жужжанием привлеченных запахом супа мух. Стояла ужасная жара. Нам не хотелось больше ни есть, ни пить, не хотелось ничего, даже спать. Мы преисполнились глубокого отвращение ко всему на свете. Тишина в столовой и во всем доме установилась просто пугающая. В этот момент на втором этаже раздался выстрел винтовки, сухой щелчок, на мгновение прервавший тишину, а затем мой отец, с грохотом роняя на ходу стулья, бросился наверх, чтобы увидеть то, о чем он уже догадался и так. Комната тети Урсулы была в жутком состоянии, сама она лежала у кровати без головы в луже крови. Мне действительно показалось, что у нее не было головы, а осталось только что-то бесформенное с прилипшими волосами. Осколки ее головы были повсюду, на стенах, на потолке. На потолке они были видны хорошо, а на стенах среди цветочков на обоях, их было разглядеть сложнее. Все окна были распахнуты, стекла выбиты, а на слегка колыхавшихся в потоках жаркого воздуха занавесках виднелись пятна крови. Ружье валялось рядом с телом: тетя упала навзничь сразу после выстрела. Еще я запомнил ее ботинки, они до сих пор стоят у меня перед глазами: один - справа, а другой - слева, как будто она специально расставила ноги, чтобы упасть всем телом вперед. Тетя Урсула, лежа на полу, казалась больше, чем она была в обычной жизни, выше ростом, и это отчетливо запечатлелось в моем мозгу на всю жизнь, я до сих пор помню ее слипшиеся волосы и глядящие в разные стороны носки ботинок. Из-за жары ее похоронили уже на следующий день. На похоронах присутствовали городские власти и толпы народа. Пожарники водрузили ее тело на автомобиль, кажется, это был рено, до блеска начищенный и весь покрытый цветами. Мой отец, моя мать, Жюлиус и я, шли во главе траурной процессии, представители власти шли за нами. Один из организаторов церемонии сказал моему отцу, что тот может идти до церкви, не снимая шляпу, на что отец ему сухо бросил: "У меня нет шляпы". Мы с Жюлиусом толкнули друг друга локтями, с трудом сдержав приступ смеха. Траурный автомобиль медленно и практически без шума, как корабль, тронулся в путь. По пути в собор люди вокруг нас образовали вдоль тротуара живую изгородь, размахивая французскими флагами, снимая шляпы и осеняя себя крестами. Умри она своей смертью, ей вряд лии организовали бы столь же грандиозные проводы. Еще я запомнил прохладный полумрак церкви и яркое солнце на кладбище, а так же то, что после речи мэра все запели "Марсельезу". Она так и осталась там, тетя Урсула, никто не перезахоронил ее на Пер-Лашез. Поэтому для нас кладбище Марманд это что-то вроде форта Дуомона, где и поныне располагается передовая линия нашей обороны. *** На обратном пути, неподалеку от Верзона, мы первые увидели немцев, это были feldengendarmes на мотоциклах с колясками. На ногах у них были великолепные сапоги, а во всем их облике было столько истинно арийской грации и воинственности, что кто-то из нас не удержался и сказал, что мы попали в хорошие руки и теперь нам будет лучше, чем раноше. Прежняя жизнь, какой бы она ни была, кончилась, причем кончилась окончательно и бесповоротно, теперь начиналась новая, возможно, в десять раз худшая, не французская, с костюмами центурионов и красивыми мужественными лицами, но сопровождавшаяся оглушительным топотом сапог, рождавшим в душах смятение и ностальгию по республиканскому беспорядку. Перед глазами победителей мы предстали далеко не в лучшем виде, особенно с этими нелепыми матрасами на крышах машин. Мы сами себе казались грязными, уничтоженными, дурно пахнущими, в общем, у нас было такое чувство, будто нас застали в самый неподходящий моменьт с дерьмом на заднице. Потребовались годы прежде чем я смог побороть в себе это чувство и научиться ходить с поднятой головой, хотя, конечно, потом я всегда держал ее высоко поднятой. Мне пришлось заново выковывать свои душу и тело, дабы стереть морщины, появившиеся у меня в тот день у Верзона. Только ценой неимоверный усилий я не позволил себе окончательно впасть в уныние. Тому, кто тяжелее, чем воздух, нелегко взлететь, а тому, кто находится в дерьме, не так просто ощутить аромат розы. Весь мир и окружающая природа были против меня, но я не сдавался, взяв на вооружение литературу и музыку. Я построил себе замок из песка и снега, эфемерный, как огромный мыльный пузырь. Я сражался с призраками и стучался в открытые двери, но я называл вещи своими именами и ставил все точки над i , предпочитая не закрывать глаза без необходимости. Все-таки это гораздо лучше, чем ничего. Оборачиваясь назад, я вижу дорогу, по обе стороны от которой расположены могилы близких мне людей. Собственных же следов на ней я не вижу, хотя я еще вчера шел по ней. Вдали я замечаю какого-то мальчишку, который бежит по ней, задыхаясь в пыли. Вид у него вполне довольный. Вероятно, это я. *** Во время первой воздушной тревоги в Париже я спал, и меня разбудила моя мать. Нужно было срочно одеваться. Я отчетливо слышал вой сирен и разрывы бомб. В свою рубашку и брюки для гольфа я влез без труда, а вот с носками пришлось изрядно повозиться. Зубы мои стучали, а руки и ноги лихорадочно тряслись. Мне удалось попасть в носок только с двадцатой попытки, то же самое повторилось и с другой ногой. Потом мы, сломя голову, бросились вниз по пожарной лестнице, волоча за собой чемоданы, в которых мой отец спрятал драгоценности. Служанки с одеялами, бутылками воды, плиткой, аптечкой и большой статуей Святой Девы из гостиной скакали по ступенькам след за нами. В подвале мы зажгли свечи, отец открыл бутылку Сомюра, а Пепита начала тихо причитать. До этого мы уже слышали, как она ворчит на кухне, но теперь она обращалась непосредственно к нам, рассказыая, как во время Первой Мировой она сидела в этом же подвале со своей хозяйкой, графиней и ее сыном, который постоянно ходил в новенькой форме летчика, хотя сам никогда даже не садился в самолет, разве что на земле, чтобы сфотографироваться. Пепита рассказала нам, что графиня вермя от времени поднималась по лестнице во двор, и грозно кричала, обращаясь к небесам. "Проклятые, -- вопила она, -- у нас тут есть один ас, вот он вам сейчас покажет!" Этот ас тем временем сидел в подвале, наделав от страха в штаны. Нас детей, эти рассказы забавляли и успокаивали, главным образом потому, что наша старушка Пепита пережила войну 14 года и по всей видимости собралась пережить еще три или четыре мировых войны. Даже мой отец и тот, прийдя в себя, попросил ее рассказать еще о чем-нибудь, например, про бомбардировки и просто, какие боши скоты, или о бомбе, которая упала на углу улицы Вано, на лавку молочницы, которая в это время родила маленького Марселя, прямо в подвале, среди сыров. Когда тревога кончилась, все были настолько увлечены рассказами Пепиты, что не хотели покидать подвал. Тревог было еще множество, но мой отец решил, что больше спускаться в подвал никому не нужно. Лежа в своей постели, я слушал грохот взрывов и гудение летающих над Парижем американских самолетов, а как только трубили отбой, моя мать надевала свою форму Красного Креста и на велосипеде отправлялась в разбомбленные кварталы. На следующее утро мы с Жюлиусом по дороге в школу собирали осколки точно так же, как когда-то во время каникул мы собирали в лесу грибы. Все же у меня была замечательная мать: с красным крестом, на теннисном корте, в бальном платье - она всегда оставалась самой собой, была красивой и несгибаемой, за словом тоже в карман не лезла, к тому же она была моей матерью. *** Все, не примкнувшие к коллаборационизму, не имели права перемещаться, не только потому, что им это было запрещено, но еще и потому, что их лишили транспортных средств. Впрочем, мало кто осмеливался сделать сознательный выбор в сторону коллаборационизма или сопротивления, ибо будущее было слишком неясным, и большинство предпочитало неопределенность. Ко всему прочему, практически все страдали от недоедания, недостатка тепла и одежды. Подобные лишения заставляли людей быть экономнее и есть больше хлеба вместо привычных рыбы или птицы, правда, некоторые выращивали птиц у себя на балконе, и потом их съедали. Повсюду увеличилось количество грабежей, разорений и сумасшествий. Все думали только о том, как выжить, отчего искусства, не имеющие практической ценности, пришли в упадок. Так иногда вырывают цветы, чтобы на их место посадить овощи. В Сериньи мне часто приходилось работаьь на взятых моей матерью в аренду полях, где она выращивала картофель. Я пропалывал сорняки и истреблял колорадских жуков, а собранный урожай вилами складывал в пропахшие плесенью мешки, которые затем, надрываясь, тащил к дому, ну а затем мне приходилось, преодолевая отвращение, есть этот картофель, употребляя его в пищу во всех видах: вареным, жареным, печеным, в саалате, и в пюре - подобных оргий не вынесла, наверное, ни одна свинья. Этот картофель снился мне по ночам в кошмарных снах, и я мечтал об окончании войны, когда никогда не буду его есть, а буду есть только копченую колбасу, которой мы в то время были полностью лишены. Позже, когда я наконец обрел свободу, правда, не столько благодаря Освобождению, сколько благодаря эмансипации - я всегда предпочитал бесполезное всему остальному. Я люблю бесполезные шумы, Жана-Батиста, Амадеуса, Людвига, обоих Рихардов и многих других; люблю ароматы, деликатесы, предметы старины, живопись и вообще все, что не имеет практической ценности. Книги и риторику я тоже люблю, впрочем, с годами отвращение прошло, и теперь я снова полюбил картофель, несмотря на его полезность. В общем, в жизни мне частенько приходилось заниматься подобным принудительным трудом начисто лишенным какого бы то ни было смысла. Счастлив тот, кто легко гарцует по жизни, с усмешкой взирая на себя и на окружающих, но горе тому, кто привык считать себя носителем некоего смысла и ломает голову над своим высоким предназначением. Насколько мне известно, участь существ, приносящих людям пользу, всегда была крайне грустной, взгляните хотя бы на ломовых лошадей, кур, свиней с фермы, сторожевых собак или на тот же картофель - все они приносят пользу, но им не позавидуешь. *** "Ваш главный враг - это вульгарность, с этой продажной тварью вам необходимо бороться прежде всего, ибо она живуча, как сорняки и клопы. Кажется, что ты ее уже победил, но она еще шевелится и готовится к новому прыжку. Война против нее - ваш священный долг, и вы должны вести ее постоянно и без пощады." Всякий раз, когда отец заводил разговор на эту тему, он впадал в такое возбуждение, что ооднажды я даже видел, как он залез на буфет в столовой в присутствии бабушки и аббата, дабы вещать оттуда о Священной Войне, как с кафедры: "Можете ругаться, крыть своих собеседников на чем свет стоит, исповедовать какие угодно низменные идеи, только не допускайте ни грамма вульгарности. Даже находясь в сточной канаве, нужно уметь сохранить изысканные манеры и вы должны научиться этому." И действительно,в моем отце не было ни капли пошлости или вульгарности, хотя порой он был очень грубым. Он мог прогуливаться полуголым, проводить целые вечера в угольном подвале, выходя оттуда черным, как трубочист, лежать в луже мазута под сломанной машиной, бродить ночью по квартире в ночной рубашке или даже работать в картофельном поле, как это было во время оккупации, но он никогда и нигде не ронял своего достоинства, и манеры его оставались безукоризненно изысканными. Аббат слушал заклинания моего отца со стаканом в руке и ртом, забитым едой. В сутане он смотрелся неплохо и вовсе даже не вульгарно, хотя я не уверен, что в кальсонах или ночной рубашке он выглядел бы столь же эффектно. Послы поступили абсолютно правильно, облачив их в эти симпатичные платья, которые делали их бесполыми и милыми. Если бы не потолок, мой отец взобрался бы и на шкаф, чтобы его вопли были лучше слышны и разносились как можно дальше. В общем, это было довольно забавное зрелище, особенно для детей. Моя мать неоднократно пыталась снять его с буфета, дабы не пугать наших гостей. "Слезайте же, мой друг, вернитесь к нам, не кричите так громко, мы слышим вас очень хорошо, к тому же и ваша яичница остынет. Чего доброго, вас услышат немцы, они могут подумать, что здесь собрались участники Сопротивления." Но все было напрасно. Когда мой отец заводился, ничто не могло его остановить: ни немцы, ни яйца. На буфете был уже не человек, а Зевс, Фантомас и Святой Георгий в одном лице, готовый в любой момент, как Тарзан, вцепиться в люстру и перебраться на комод. Служанки продолжали свою работу, как будто ничего не происходит, моя бабушка только сокрушенно качала головой, но это не мешало ей обедать, а мы, дети, сами с удовольствием залезли бы вслед за ним и на буфет, и на люстру, чтобы немного поразвлечься. Закончив свою проповедь, он спускался к нам за стол с видом олимпийского Бога, который спускается с горы, дабы благосклонно разделить трапезу со своими почитателями. Если бы аббат подобным образом вел себя в церкви, там яблоку было бы негде упасть, самые отъявленные атеисты, агностики и коммунисты ходили бы туда каждый день. Они все бы уверовали в Бога. Увы, наш отец не мог одновременно вещать с амвона, школьной кафедры и буфета в нашей столовой. В своем роде он был гений, но даром вездесущности он не обладал. *** Так как наш отец с детства приучил нас к умеренности в еде, нам вполне хватало карточек на питание в течение всего периода оккупации. Более того, мы даже обменивали свои талоны на машинное масло, а мясо на велосипедную шину или пару ботинок на деревянных подметках. Кроме ежедневного пайка, получаемого нами в префектуре, а также сухарей и витаминных пастилок, которые нам выдавали в школе, на черном рынке всегда можно было купить кофейный напиток, заменитель угля, обезжиренное молоко, сахарин и вообще эрзац практически любых продуктов: маргарин, масло, в котором не было ни грамма масла, и хлеб, в котором не было ни грамма муки, не говоря уже о газогенных машинах и велосипедах, заменявших в ту пору такси. Никогда мы еще не чувствовали себя так хорошо, наши печени и желудки не страдали от лишних перегрузок, уровень холестерола в крови был предельно низок, табак и жиры практически отсутствовали, мясо - тоже, мы сбросили лишний вес, а множество появившихся у нас допольнительных забот помогло нам избавиться от нервных депрессий. Мой отец был на седьмом небеа! Он повсюду твердил, что праввительство Виши делает это нарочно, для блага и здоровья своих подданных, так как, на самом деле, на складах магазинов полно мяса и других продуктов первой необходимости. Он не исключал того, что администрация даже их выбрасывает из-за недостатка места, выливает по ночам в реки тонны молока, а бензин и уголь сжигает, чтобы люди больше ездили на велосипедах, и вообще, вели более спартанский образ жизни, не расслаблялись и готовились к революционным преобразованиям. Возможно, все это было и так, но лучше было бы об этом вслух не говорить. Озлобленный против маршала народ мог взбунтоваться, ведь во всевозможных слухах и без того недостатка не было, а мой отец своими разговорами только подливал масла в огонь. Таким образом, сам того не желая, он оказывал поддержку бойцам Сопротивления и сражался на стороне генерала де Голля, причем весьма эффективно. Впрочем, соседи не склонны были видеть в моем отце ни участника Сопротивления, ни коллаборациониста, скорее, они считали его выжившим из ума разносчиком слухов. Его пророчества никто не принимал всерьез, ибо мало кто мог всерьез поверить в то, что после поражения Германии и освобождения Франции вернувшееся изобилие повлечет за собой настоящую экологическую и санитарную катастрофу, а по сему доводы моего отца в пользу жестких мер, призванных восстановить пошатнувшееся здоровье нации путем всевозможных лишений и ограничений, казались малоубедительными. "Вот увидите, когда-нибудь все сами будут употреблять только обезжиренные молоко и масло, безалкогольное пиво, кофе без кофеина, хлеб без муки, табак без никотина и сахарин, а велосипеды окончательно вытеснят автомобили, распространение которых будет ограничено путем увеличения налогов и штрафов." "Неумеренность в еде вызывает всевозможные болезни и загрязнение окружающей среды, от которых правительство Виши, вводя ограничения, вас избавляет, однако благотворные последствия этого вы сегодня оценить не в состоянии." Моя мать считала, что подобные глупости до добра не доведут: либо немцы арестуют за участие в Сопротивлении, либо свои расстреляют после Освобождения за коллаборационизм. *** 6 июня 1944 года около 10 часов утра, когда я, как обычно, занимался с матерью своим заданием на лето, к нам в столовую с безумными воплями ворвалась наша соседка мадам Забло. Она была вне себя от возбуждения, босиком, взъерошенная, в распахнутом халате, из-под которого виднелись груди. Моя мать попыталась ее успокоить. Не волнуйтесь, мадам Забло, не надо так орать в присутствии моего сына, возвращайтесь к себе, все образуется. Мадам, вот и все, -- задыхаясь бормотала та сквозь зубы, -- вот и все. Возвращайтесь к себе, мадам Забло, все образуется, дышитте глубже, и это у вас пройдет, вероятно, это просто прилив крови, такое случается со всеми. Вот и все, -- твердила та, -- вот и все, говорю я вам, сеегодня утром это свершилось. Что свершилось? -- раздраженно спросила моя мать. - Выражайтесь, пожалуйста, яснее, особенно при моем мальчике, в его возрасте дети очень впечатлительны. Вот и все, они высадились Ах! Ну и видок был в этот момент у нас троих, как мы растерялись, пустились в пляс, начали смеяться, громко вопить, рыдать, от счастья мы готовы были лезть на стену, ходить по потолку, казалось, еще чуть-чуть - и мы взлетим. Они высадились - а значит, прощай война и летние домашние задания, немцев - под зад ногой, скоро снова появятся рогалики, колбаса и масло в неограниченном количестве. Мадам Забло в этот момент показалась нам самой замечательной женщиной в мире, такой веселой, очаровательной, даже утонченной. Моя мать хотела подарить ей свои тапки, она предложила ей принять душ и выпить с нами портвейна, сама помогла ей привести себя в порядок, убрать свои груди под халат, и вообще, успокоиться. Мы не знали, как отблагодарить ее за эту новость, которую она прибежала сообщить нам, обезумев от счастья, расстрепанная и босая. Мы вам так признательны, мадам Забло, вы поступили благородно, такое не забывается, я расскажу об этом моему мужу, малыш и я будем об этом помнить всегда. Мы были так очарованы и восхищены ею, будто это она сама лично организовала высадку союзников. Она ушла от нас гордая и довольная собой, у меня до сих пор стоит перед глазами, как она, размахивая руками, идет к себе через наш маленький садик. И хотя она по-прежнему продолжала во всю глотку вопить, мы сами с матерью подняли у себя в доме такой шум, что ее уже не было слышно. Запомни, -- сказала мне моя мать, -- запомни, кретин, это мгновение на всю жизнь, такого человек не имеет права забывать, тот, кому это посчастливилось пережить, должен помнить об этом всегда. И я, действительно, запомнил это мгновение, оно прочно засело в моей голове, доказательством этому является то, что этим вечером, спустя пятьдесят лет, я вам все это рассказываю. *** Надо сказать, что эстетически предыдущая война тоже представляла собой впечатляющее зрелище, ибо во всевозможных ужасах во время нее недостатка не было. Масштабы разыгранного представления поражают своей грандиозностью. Казалось бы, развернувшаяся на огромной территории и длившаяся в течение нескольких лет та мировая война так и останется непревзойденной по своей ужасающей глупости и чудовищности. Никому и в голову не могло прийти, что по прошествии всего двадцати лет после ее окончания, оставшиеся в живых после этой мясорубки французы и немцы, их дети и дети погибших затеют новую бойню. В самом деле, нужно очень любить войну и испытывать к ней какое-то особое пристрастие, чтобы по истечении столь короткого срока после окончания четырехлетней кровавой драмы, унесшей около десяти миллионов жизней, ввязаться в новую. Однако с эстетической точки зрения первая Мировая была всего лишь удачным хорошо отрежиссированным грандиозным спектаклем, в котором было задействовано огромное количество статистов и самых соверменных машин. А в искусстве предела совершенству нет. Успех спектакля, сколь бы полным он ни был, никогда не может до конца удовлетворить его создателей и избавить их от желания сделать нечто еще более замечательное. Так что законы жанра требовали, чтобы опыт был повторен: не останавливаясь на достигнутом, с новым музыкальным сопровождением и использованием новых выразительных средств, действие должно было стать более динамичным, главным образом, за счет вовлечения в него помимо военных и широких слоев гражданского населения, остававшихся до сих пор пассивными наблюдателями. Таким образом, руководствуясь стремлением к совершенству, приступили к осуществлению новой постановки, которую тоже можно считать успешной, ибо война длилась шесть лет и унесла с собой не менее шестидесяти миллионов жизней. Мой отец был поклонником Вагнера и любил все грандиозное, так что прошедшая феерия вполне соответствовала его эстетическим воззрениям: "Даже без ядерного взрыва, это было бы грандиозное и неповторимое зрелище. Если молодежь рвется в бой, то разве можно ей это запретить? С таким же успехом можно было бы подавлять любые проявления свободомыслия, насаждать демократию, тем, кому она не нужна и вообще, объявить запрет на свободу совести и свободу вероисповедания." А так как будущее всегда познается в прошлом, он предсказывал нам новые чудовищные религиозные войны. Моя мать была настроена куда более идиллически. Она считала, что уже завтра сегодняшние враги полюбит друг друга друга, все дети мира возьмутся за руки, а богатые начнут помогать бедным. Она любила романы, благозвучную музыку, животных, природу, цветы и фрукты, и искренне верила, что здровье победит болезнь, а Богиня Разума поможет установить Мир и покончить с войнами, все это вызывало жуткие вопли со стороны моего отца, который не хотел, чтобы нас воспитывали на утопиях, убаюкивали музыкой и усыпляли нашу бдительность. "Это все равно, что говорить им, будто куропатки начнут убивать охотников, торговцы пушками займутся производством сладостей, а лисы почувствуют отвращение к курам и станут вегетарианцами." Эти разногласия часто перерастали в крупные скандалы, которые, по мнению моего отца, лушче чем что бы то ни было подтверждали справедливость его воззрений, тем более, что моя мать сама привносила в эти скандалы особый драматизм, срывая с себя одежду и произнося столь громкие тирады, что от них едва не лопались ушные перепонки, куры во дворе разбегались, а все окрестные собаки начинали выть. Впрочем, никто из нас не сомневался в неизбежности новых еще более разрушительных войн, ибо отец учил нас, что добро никогда не победит зло, а жизнь, как бы прекрасна она ни была, никогда не победит смерть. *** "Ваш сын круглый болван, законченный круглый болван". Моя мать так и подпрыгнула, когда услышала это. Префект же 4-го отделения, сказав ей это про меня, сам того не подозревая, очень уронил себя в ее глазах,он превратился в ничтожество, на которое не стоит обращать ни малейшего внимания. Она взяла меня под руку, совсем как зонтик, и мы так прошествовали с ней перед лавками провизора и эконома, пересекли раскаленный от полуденного солнца рекреационный двор, в это время как раз заканчивались уроки, прошли перед окошечком портье и незаметно по-воровски шмыгнули в автобус, идущий к Одеону. "Ах, значит ты круглый болван, надо же до такого додуматься!" Ах! Какое оскорбление! Какое несмываемое пятно на моей репутации! После этого, казалось бы, на моем образовании можно было поставить крест. Тем не менее, в следующий понедельник меня опять отвели в школу, заклиная впредь вести себя хорошо и ни во что не ввязываться. И я действительно был преисполнен самых благих намерений, но, увы, надолго меня не хватило. *** А вот когда мы со Шмиттом подожгли комиссариат, это уже были не шутки, не слова, а настоящий проступок, научно проверенный факт, запротоколированный и вошедший в историю. Мы оскорбили старую консьержку, которая приставала к нам и мешала курить под аркой, мы ее обложили по первое число, покрыли ее самыми что ни на есть грубыми гнусными ругательствами. А старушка обиделась, восприняла все всерьез, вызывала полицию, и нас отправили в участок, где пай-мальчикам вроде нас, конечно же не место. Нас заперли в какой-то клетке, а сами отправились составлять протокол. Тут Шмит, чтобы развлечься, и решил поджечь валявшиеся там газеты, поскольку он был примерным скаутом и всегда носил с собой спички. Пламя и дым распространились по всему комиссариату, все завопили и зачихали, приехали пожарные. За такие детские шалости нам уже грозил суд присяжных и каторга. Шмитт вел себя как настоящий герой, он все взял на себя. Кроме того, на мое счастье, у меня не оказалось при себе спичек, что подтверждало мою невиновность. Скаутом я был не столь примерным, как он, и носил с собой только пробку, швейцарский нож и бечевку, спички же я забыл, именно это меня и спасло, что лишний раз свидетельствует о том, что иногда некоторая небрежность в делах может очень даже пригодиться. Тем не менее, моим родителям позвонили и предложили им прийти за мной, а в это время в гости к моей матери как раз пришли подруги, так что звонок из полиции прозвучал очень некстати! У них тоже у всех были дети, которые хорошо учились, во всем были примерны и старательны, и вообще получали только призы, похвалы, медали и грамоты, а моя мать и без того, предпочитала помалкивать об мне, так как меня постоянно откуда-то выгоняли и куда-то не принимали, в математике я был последним в латыни, катехизисе и географии - тоже, а по остальным предметам и того хуже, а тут оказалось, что я еще и поджигатель, и не чего-нибудь, а комиссариата! Пришедший за мной отец держался очень бодро, но я всю жизнь буду помнить накаленную атмосферу столовой, когда мы с ним туда вошли, и как эти мегеры сразу же набросились на меня. И надо отдать должное моей матери,которая заметив что ее подруги закусили удила, незамедлительно выставила их всех за дверь, пожелав им на прощанье побольше внимания уделять своим собственным детям, а нас оставить в покое, ибо ее дети прекрасно воспитаны и без них, и вообще, мол, это не по-христиански, не замечать в своем глазу бревно и так могут себя вести тоько люди, которые сами никогда не были молодыми и ничего не понимают. Отец и я получили истинное наслаждение, наблюдая за тем, как они спускаются с лестницы с воплями и зонтами, они явно недооценили мою мать, которая в гневе превращалась в настоящую львицу. В самом деле, они всегда очень горячо благодарили нас за чай и печенье, однако подлинной человечности и скромности в них не было ни капли. Когда они очистили помещение и мы остались втроем, больше никто не смеялся. Тут-то мне и учинили ужасную взбучку, которая сама по себе была крайне неприятна, однако я избежал суда присяжных и каторги, так что можно сказать, я легко отделался. *** Мне было всего 13 или 14 лет, когда мои наставники окончательно вышвырнули меня из школы Боссюэ, при этом вид у них был крайне брезгливый. Будь у меня чума или холера, у них на лицах не было бы, вероятно, написано столько отвращения, когда они попросили меня собирать свои вещи. По-своему я был даже рад, так как ненавидел это заведение всей душой, однако я с ужасом представлял себе, как вытянется дома лицо моего отца. Я уже слышал его обычные в таких случаях причитания: "Ты кончишь в тюрьме", "ты сведешь нас в могилу", "ты не понимаешь зла, которое нам причиняешь", "бессердечный", "и не жалко тебе свою бедную маму?", "посмотри, в какое положение ты нас ставишь", "что нам сказать мадам Дюжардэн, твоей крестной матери, и тете Эдмонде?", "когда я думаю о жертвах, которые мы, твоя мать и я, принесли, чтобы дать тебе приличное воспитание" и т.д. Мой отец всегда произносил это с искренним убеждением в своей правоте, призывая в свидетели Бога и мою мать. Учитель латыни больше других настаивал на моем исключении, а ведь этот скот сам посадил меня на последнюю парту и вел урок так, будто меня не было вовсе. Я мог бы спокойно сгнить в своем углу, -- он бы все равно продолжал читать свои склонения. Но как бы там ни было, я действительно не испытывал особого желания учиться и не проявлял интереса ни к чему, что мне преподавали, кроме пения и гимнастики. Пел же я неповторимым ангельским голоском, которым всегда умело пользовался. В гимнастике я тоже был лучше всех, кроме, может быть, Буланже и Кардонне, которые некоторые упражнения делали лучше меня. За что я их страшно ненавидел. Что касается Далтона, то его я считал настоящим ублюдком, потому что он лучше всех писал сочинения, и мои родители постоянно приводили мне его в пример, как некоего уникума. Именно он стал моей первой ненавистью. И это чувство помогло мне и научило жить. Сегодня по прошествию стольких лет, я еще больше признателен этому Дальтону. Я благодарен ему за то, что он оказался тем объектом, без которого я никогда бы не научился ненавидеть так, как я умею это сегодня. В преддверии нового года моя мать обычно устраивала праздники, в связи с чем мой отец позволял немного расслабиться нашим телам, содержавшимся в строгости и мало привыкшим к возлияниям. Губительные последствия этих прискорбных событий мы ощущали на себе в течени нескольких недель после их окончания. Невозможно было без волнения смотреть на то, как моя мать готовит всевозможные сладости, праздничные наряды, безделушки, конфеты, шоколад, духи и еще тысячи всяких мелочей, которые она все раскладывала вокруг новогодней елки, украшенной разноцветными бумагами, жутко звякающими побрякушками, блестящими, серебряными или позолоченными шарами, бантами, гирляндами из умопомрачительной формы электрических лампочек, снегом из ваты и настоящими еловыми ветвями с дисками церковной музыки в исполнении имитирующем хор кастратов. У нее все было продумано до мелочей: свечи, прическа ангела, ясли, барашки, пастухи - свежую солому для маленького Иисуса она готовила заранее, а деву Марию, святого Иосифа, осла, крестьян и волхвов припасала для чуть более поздних событий. Мой отец только недоуменно пожимал плечами, предсказывая опустошительные последствия подобных излишеств для детей, которых он обычно воспитывал в строгости. Зачем самураям миндальное тесто, шоколад и нежная музыка? Но что поделаешь, раз в год из-за праздника ему приходилось поступиться своими воспитательными принципами, хотя мы прекрасно знали, что как толькоо уедут кузены из Бретани, дядя из Страсбурга, наши крестные, тетушка из Тулузы и господин аббат, уже в начале января, когда остальные будут продолжать веселиться и отдыхать, нас снова ждут суровые испытания, вроде утренних купаний в реке, обтираний снегом, голодовок, воздержаний и самобичеваний. Смеяться и плакать нам было запрещено, поэтому мы должны были искренне всему этому радоваться, и надо сказать, в глубине души, мы, пожалуй, действительно предпочитали подобные истязания плоти лакомствам, которыми нас раз в год пичкали. Так уж устроено человеческое тело, что оно не терпит перемен ни от лучшего к худшему, ни от худшего к лучшему, ибо и к комфорту очень тяжело приспособиться, когда от него отвыкаешь. *** Соседи, наблюдавшие за нами из-за занавесок своих окон, знали о них все. За нами шпионили повсюду, дома это делали служанки и жители двух домов, расположенных справа и слева от нашего, на проспекте генерала Фелона. Нужно сказать, что отец своими странностями притягивал к себе любопытные взгляды, как магнит, а наша манера бегать нагишом по дому порождала множество слухов, которые постоянно циркулировали в мэрии, в церкви и комиссариате полиции. Только слепой мог не заметить косых взглядов, которые постоянно бросали на нас в школе, особенно, когда зимой мы приходили туда в одной рубашечке и с голыми ногами. Впрочем, никто не осмеливался нам ничего сказать, потому что мы, в отличие от остальных сопляков, никогда не кашляли и не чихали. Во дворе мы играли в моржей, что, опять-таки, порождало массу сплетен. С той поры я не могу избавиться от ощущения, будто у меня за спиной постоянно шепчутся, где бы я ни находился. На улице, в саду, в гостиной - везде я чувствую себя промокшей собакой, случайно забредшей в приемную помощника префекта. Столь неподдельное изумление, застывшее на мелькающих в зеркалах лицах, мог бы вызвать только человек с дырой на брюках на неприличном месте или забывший надеть ботинки. Поэтому, прежде чем куда-нибудь зайти, я всегда проверяю, все ли у меня в порядке, дабы не вызвать окончательный переполох среди тех, кого уже и так пугает сам факт моего прихода. Я хожу мелкими шажками, сдерживаю свое дыхание, стараюсь ничего не разбить, ничего не говорить и даже ни о чем не думать. Пью я лишь сироп, ничего не ем, в общем, делаю все от себя зависящее, чтобы все проходило гладко и без эксцессов, однако мне ни на секунду не удается избавиться от ощущения, будто у меня из-за ворота торчит перо и все окружающие виидят меня насквозь. При первой же возможности я стараюсь улизнуть за дверь, и бегом через сад, задевая стены, со всех ног бросаюсь к себе домой, вернувшись куда, я всякий раз испытываю такое облегчение, будто мне только что удалось избежать смертельной опасности. Подобным сильным ощущениям я обязан исключительно своему отцу, приучившему меня к мысли, что я не такой, как другие, и воспитавшему во мне желание от них во всем отличаться. Обычная внешность, крошечные ножки в крошечных башмачках и умиротворенно сложенные крошечные ручки помогают мне скрыть от окружающих свои скверные манеры и странные мысли, которые порой приходят мне в голову, я пожимаю все руки, которые мне протягивают, обнимаюсь, когда нужно обниматься, и смеюсь, когда нужно смеяться. Я стараюсь не наступать никому на ноги, и всегда напускаю на себя такой вид, будто ничего вокруг не слышу, не замечаю и не понимаю. Только заставив окружающих поверить в то, что ты полный идиот, можно найти себе место под солнцем, главное, чтобы они не догадывались, что в глубине души ты бы хотел положить бомбу под каждое из их кресел. *** Мы были отмечены тайной, недоступной для остальных, но безразличия к окружающему миру в нас не было, скорее, наоборот. "Не убивайте муху, которая летает! Осторожнее с пауками, кузнечиками и земляными червями, дайте им жить и оберегайте их, ибо это одна из частей вашей человечности." Тот, кто научится уважать мух, в конце концов начинает испытывать и к своим ближним бесконечное сочувствие. Если бы другие были нам равны, если бы они жили, как мы, в соответствии с нашими принципами, мы бы их возненавидели. Но так как нашим секретом было никогда не делать так, как они, эта опасность нам не грозила. Даже если бы они сами начали вести себя как мы, мы бы сразу начали вести себя по-другому. Зачем нам было их ненавидеть? Ненавидят ведь лишь тех, кто равен тебе, кому ты завидуешь, с кем соперничаешь. Похожие друг на друга люди, замкнутые в одной сфере деятельности, не прощают друг другу ни малейшей оплошности. Нас же ничто не связывало с остальными, мы были сами по себе, они - тоже, так что трений между нами быть не могло. Мой отец выходил во двор и кричал: "Любите друг друга, любите мужчин, женщин, детей, собак и кошек. Научитесь любить мух и вшей, которые у вас в голове, ваши мигрени, мозоли на ногах, боль в желудке, родинки, лысый череп, каждый из ваших волосков и каждую из ваших ягодиц." "Пусть ваши маленькие дети придут ко мне и я накажу их так, как они того заслуживают, я отлуплю их ради спасения их души, освящу их ударами своей палки, напущу на них своих собак,чтобы они как следует искусали их мягкие зады, вот тогда они научатся любить своего ближнего как самого себя, а потом они придут ко мне и попросят прощения за зло, которого они мне не сделали." Пританцовывая как дервиш и размахивая своей шляпой, он впадал в транс и способен был сказать все, что угодно. Он упивался словами, нанизывая их друг на друга, как жемчужины. Речь его не имела особого смысла, но когда он, как вышедший из могилы призрак выкрикивал свои сентенции, выглядело это впечатляюще. Этот ополоумевший полудемон-полубог заставлял трепетать весь квартал. Когда с ним случался очередной такой припадок, все звали своих детей домой, запирались, как во время грозы, зажигали свечи перед иконами и съежившись ждали, когда он утихомирится. "Кесарю - кесарево, а Богу - богово! Кесарей я всех пересажал бы на кол, пусть подыхают. Плевал я на кесарей, все они одинаковы, жирные твари, в сортир их! Дерьмо они все..." Наша мать закатывала глаза к небу и умоляла Господа, чтобы он побыстрей замолчал или, по крайней мере, стал орать потише, не таким гнусным голосом, не пугал окружающих, а он еще сильнее входил в раж: "Око за око, зуб за зуб? Ты выткнешь мне глаза, я размозжу тебе череп и выколю оба глаза. Ты выбьешь мне зуб? Тогда можешь искать свою челюсть в сточной канаве, я запихну тебе ее в глотку, ты умоешься кровью, а из твоей пасти будет вонять хуже, чем из задницы." Вероятно, мой отец так развлекался, конечно, что он говорил, было более живо и доступно, чем традиционный катехизис, в котором мысли излагались не столь ярко и впечатляюще. Мой отец не любил полутонов, он предпочитал сразу же ставить все точки над i, без обиняков и лишний церемоний, он рубил правду-матку сплеча, не оставляя ни у кого сомнений в том, что он говорит. Возможно, это было слишком прямолинейно, но по-своему правильно. Никакого притворства, выкрутасов, ложного пафоса, горячности - просто удар в голову, прямо по чайнику, и все. *** Нашей соседкой снизу была баронесса, в гости к которой приходили Андре Жид и Антуан де Сент-Экзюпери. Вечером я поджила их, стоя на лестничной площадке. Шаги Жида были тяжелыми, шаги Сент-Экза - легкими. Он взлетал наверх, как истинный авиатор, перепрыгивая через четыре ступеньки, и делал это в два раза быстрее, чем Жид. Не бойтесь, я не буду вам морочить голову рассказами о том, что видел, как Жид и Сент-Экз играют в футбол! Или как мы с Селином сыграли с ними партию в бридж. Нет, я всего лишь ждал их по вечерам, стоя на лестничной площадке, когда они поднимались к баронессе. Об их приходе я узнавал из разговоров кухарки со слугой, которые я подслушивал. В той среде они были двумя прекрасными принцами, встречу с которыми невозможно забыть, для мальчишки моего возраста это были настоящие гении, особенно мсье Жид, которого я видел потом еще много раз после смерти другого, а когда я тайком прочитал его "Яства земные", эта книга настолько меня поразила, что я готов был пожертвовать ради него своими родными матерью и отцом. Сент-Экз, конечно, был не столь изощренный и во многих отношениях менее обольстительный, если не считать того, что это именно он садился в своем самолете на лужайку перед нашим домом. Я стоял у окна своей маленькой комнаты и видел, как баронесса в белом платье бежит к нему. У меня до сих пор стоит перед глазами, как он выпрыгивает из Латекоэра в своем кожаном шлеме и комбинезоне. Чтобы там ни говорили, но подобные впечатления глубоко западают вам в душу и с годами не только не выветривается из вашего сознания, а наоборот, становятся еще ярче и романтичнее. По правде говоря, мне больше нечего рассказать об этом, хотя я мог бы сказать, что слышал их разговоры, но это было бы уже слишком. Много раз я припадал ухом к паркету, чтобы услышать их. Я воображал то, о чем они, находясь этажом ниже в большой позолоченной обеденной зале, между собой разговаривают, но на самом деле я ничего не слышал. Я не считаю, что всегда нужно говорить только правду, однако вымысел и ложь должны быть правдоподобными. Лайнер у нас на лужайке, сам Шарко, спускающийся из дирижабля, стоящего у кромки берега, знаменитые пилоты Мермоз и Бреге у баронессы, а я в пижаме, прихожу сказать им "добрый вечер" - все это так красиво, что вполне могло бы быть правдой. Главное - знать меру и не переступать границу дозволенного. Как правило, мы находимся в плену у пережитого, но еще в большей степени нас одолевает то, что нам хотелось бы пережить. Вот если бы все это можно было бы рассказать, наплевав на эти чертовы границы, но увы, это невозможно. *** Счастлив тот, кто не может наесться досыта, вынужден себя сдерживать и полон сожалений. Сытого постоянно клонит в сон, в то время как человек голодный бодрствует, ему все интересно и он всегда что-то ищет. Вот почему мой отец хотел, чтобы у нас полными были кошельки, а не желудки. Что касается наших голов, то он тоже предподчитал, чтобы мы не слишком забивали их разными бесполезными знаниями, дабы там всегда оставалось немного места для лукавства и чего-нибудь необычного. "Забудьте все, чему вас учили, -- любил говорить он, -- переварите знание и избавьтесь от него". Он следил за тем, как мы перевариваем знания, точно так же, как следил за нашим пищеварением, ибо считал связанными тело и дух, мускулы и ум, умственные и мозговые изменения. "Загромождение ваших пищеварительных органов затрудняет ваше мышление - переваривайте быстро, если хотите, чтобы ваши мысли были ясными." Живот и мозг были для него чем-то вроде сообщающихся сосудов: наполненность одного сразу же вызывала опустошение другого. С медицинской точки зрения все это было весьма спорно, однако это было необычно поражало наше воображение. Я считал, что необычное вовсем не обязательно должно быть морально или полезно, но мой отец придерживался противоположного мнения. Для него все из ряда вон выходящее, пусть даже смешное, было достойно всяческого уважения и имело нравственную ценность. "Только уныние противоестественно и аморально. Расслабление тела, насилие над своим характером и природой, скудоумие ии отвлеченные знания в высшей степени аморальны, ибо повергают людей в уныние. Все, что поет, танцует и смеется, по душе Богу, а то, что нравится Богу, не может быть аморальным." Таков был один из основных принципов моего образования. Если бы я следовал ему до конца, я, вероятно, сошел бы с ума, стал преступником или епископом. Я не являюсь ни тем, ни другим, что не мешает мне верить в глубокую связь морали и природы, безрассудства и истины. *** Мои родители считали, что мы не сможем достичь успеха и сделать блестящую карьеру, если у нас не будет крепких накачанных мускулов. Поэтому нам надлежало упражняться каждый день, утром и вечером, чтобы развить наши мускулы и сделать их крепкими и накаченными, в противном случае в будущем нас ждал крах. Тренировки были напряженными, особенно по утрам, когда тело еще не отошло ото сна. Наклон вперед, наклон назад и оп, прыжок с поворотом головы вниз, прижать грудь к коленям, скрестить бедра, потом снова прыжок назад, двойное сальто вперед, установить ноги в третью позицию и, упав вниз, отжаться отземли. Прыжки вперед и назад, в стороны, по-лягушачьи, стойка на голове и руках, двойной прыжок назад и ползком вперед, как змея. Руки вверх, приставные шаги, небольшая пауза с глубокими прерывистыми вздохами и снова назад на мостик с напряженными ногами. Это вызывало головокружение, но развивало мускулы. После таких упражнений было особенно приятно перейти в обеденную залу и позавтракать. Впрочем, толком позавтракать нам не удавалось. Вскоре нам и вовсе запретили есть, лишили чая и кофе, сведя весь завтрак к глотку воды, необходимому для того, чтобы промыть желудок и пищеварительные органы, очистить их и сохранить такими до вечера. Вода хорошо наполняла желудок и давала иллюзию, будто мы поели, хотя и не надолго. Поэтому нам приходилось часто повторять эту церемонию и глотать ее снова и снова. Таким образом, к концу дня мы выпивали литров по десять, если не больше. Таков же был питательный режим наших собак: одна кормежка в день, а воды сколько хочешь. Отец считал, что пища действует вредно и угнетающе, поэтому хотел, чтобы мы питались, как удав, который ест раз в три или четыре дня. И действительно, отказавшись от еды, люди обретают много свободного времени, не считая экономии денег и избавления от сонливости, которая сопровождает процесс пищеварения. Однако моя мать настояла на том, чтобы для нас сохранили собачью диету: "Если хочешь, веди образ жизни удава, но позволь нам питаться как собакам. Позже, когда они вырастут, они тоже будут есть, как удавы, если захотят, а пока им хватит и собачьего режима." В конце концов, здравый смысл восторжествовал. Организм сам быстро ко всему привыкает и адаптируется. Удав, который ест раз или два в неделю, переваривает пищу в течение трех или четырех дней. Он не торопится. С нашими желудками произошло нечто похожее. Когда они поняли, что им не дают ни завтрака, ни обеда, они стали подолгу хранить свои ужины. Они их смаковали прежде, чем передать нашим кишкам, которые, в свою очередь, теперь в течение дня получали небольшие порции еды, тогда как раньше им отправляли ее очень быстро: полдник, завтрак, четырехчасовая еда, не считая закусок. Наши внутренности работали, как завод, как конвейер. Не успевали они выполнить одну работу,как нужно было приниматься за следующую. Органы - они не так глупы, они знают, что делают. Наши внутренности привыкли к своему ремеслу. Они работали медленно, но очень тщательно, на совесть. Когда мне было десять лет, у нас вырубили горячую воду, и не потому что мы за нее не платили, а для того, чтобы мы научились обходиться без нее. Теплые ванны расслабляют мускулы и отупляют мозг, кроме того, они замедляют кровообращение, в результате чего некоторые части тела перестают получать кровь. Теплая ванна благоприятствует гриппу и насморку и представляет собой идеальную среду для размножения всевозможных бактерий. Микробы и вирусы чувствуют себя там прекрасно и размножаются так быстро, что те, кто купается в теплой воде, становятся их первыми жертвами, а вот холод они ненавидят. Поэтому лучше дрожать от холода, но быть здоровым - вот такому замечательному принципу мы должны были следовать. С наступлением холодов мы облачались в короткие штанишки и рубашечки, а в разгар лета на нас могли напялить теплые свитера, только для того, чтобы мы были не похожи на других. Поначалу мне было тяжело, но постепенно я ко всему этому привык и вошел во вкус. Выходя из ванной, каждый согревался, как мог, физическими упражнениями, массажем или растирая тело снегом, по мнению моего отца, плохое надо было побеждать еще худшим. После нескольких лет такого режима зимой нам постоянно было жарко, а летом - никогда! Мы победили времена года и чувствовали себя просто замечательно. Как я уже сказал, главным для нас было во всем отличаться от других. В связи с тем, что отец считал комфорт источником всех пороков, у нас в доме ничего не было, и вскоре он превратился в настоящую трущобу. Мы не вставляли выбитых стекол, не чинили стулья, повсюду были разбросаны различные вещи - все это делало наше существование более сложным и тоже должно было лучше подготовить нас к жизни. Мой отец хотел сделать из нас парсифалей, готовых к любым потрясениям и ударам судьбы. Какое-либо иное проявление своих чувств, кроме смеха, нам было запрещено. Нам запрещалось выражать испуг, плакать, жаловаться на что бы то ни было, и волноваться, даже в самых непредвиденных ситуациях. Японцы могли бы позавидовать нашему воспитанию, ибо нас воспитывали как самураев, как рыцарей Грааля. Что касается секса, то в этом отношении нам никто никаких препон не чинил. Впрочем, у нас все равно стоял весь день. Если пить одну воду, то жира не появляется, но зато член постоянно стоит. Избыток питания отрицательно влияет на потенцию. Позже я обнаружил, что многие вещи, которыми мне в детствее забивали голову, соответствовали истине. Бедняки плохо питаются, а размножаются, как тараканы. Проблему деторождения можно решить, только начав кормить бедняков, пичкая их всевозможными деликатесами и принуждая есть сверх меры,дабы заставить их побольше времени проводить за столом и поменьше в кровати. *** Папаша верил в преображение, взаимное притяжение, умножение хлебов, воскрешение из мертвых и Непорочное зачатие. Что не мешало ему верить в незыблемость научных законов, в то, что из искры может возгореться пламя, в то, что каждый в первую очередь должен надеяться на себя, а не на Бога, и в то, что труд сделал из обезьяны человека. Его вермя была светлой и радостной, ибо он не сомневался, что природа способна адаптироваться к любым обстоятельствам и справиться с любыми трудностями. Он приучал нас к мысли, что любое удовольствие, став привычным, начинает вызывать отвращение, тогда как лишения и невзгоды, укрепляя тело и душу, удаляют человека от животного состояния и приближают к божественной модели. Много раз я слышал от него, что насморк появляется из-за тепла, усталость из-за отдыха, большое количество еды вызывает голод, питье вызывает жажду, и только страдание способно доставить человеку истинное наслаждение. Он был убежден, что человеческое тело, воспитанное в холоде, голоде и лишениях, способно достичь совершенства и уподобиться телу Господа. Поэтому он выступал за воздержание и был противником изобилия, кроме того, он не сомневался, что поражения и неудачи тоже являются даром неба. Поэтому меня и воспитывали почти как дикое животное, на свежем воздухе, без одежды, приучая чутьем чуять смену времен года. А был бы я сейчас жив, если бы меня воспитывали иначе? Если бы такого тощего, кашляющего и харкающего хлюпика вроде меня воспитывали, как тепличное растение? Возможно, теперь на кладбище Бонз-анфан было бы еще одним покойником больше? А может быть, я был бы теперь постоянным клиентом диспансеров, аптек и санаториев? Глядя по сторонам, щупая свои икры и сравнивая их с икрами других, замечаю, что у одних они лучше, у других - хуже, у одних ляжки толстые, у других - миниатюрные и изящные, так и с людьми: одни нашли свое место в мире, другие болтаются в пустоте, либо потому, что они полные кретины, либо, наоборот, гении, но никому не известные, -- мир полон несправедливостей, постичь которые умом невозможно. Ободряющий взгляд со стороны окрыляет и побуждает стремиться к совершенству. Порой он пробуждает в человеке ум и способности. Однако при любых обстоятельсствах нужно уметь сохранять выдержку и хладнокровие и не снимать со своего лица непроницаемую для посторонних взглядов маску. Ибо она скрывает не только ваше лицо, но и вашу сущность, ваши самые сокровенные мысли, вашу душу. Моя душа, как обезьяна, карабкается по баобабам и окидывает взглядом весь лес. Когда дождь кончается, я замечаю тысячи крошечных душ, взгляды которых устремлены на мееня, и слышу раздирающие ночну тишину крики диких птиц. Все они умрут вместе со мной и удобрят собой землю, оставив после себя перья невероятных цветов и эхо своих криков. Ну, а я всего лишь жалкая пылинка на ветру. Я жду восхода и воскрешения. *** Судьба диких уток больше не волнует людей, они жрут в три горла и не хотят ни о чем думать. "Да здравствует крапива, шипы и корни, - кричал мой отец, выбежав на середину поляны, -- можете продолжать копаться в своем дерьме, подобно остальным идиотам, можете обрезать крылья всем уткам, но скоро вы увидите нашествие новых нео-римлян, ибо татары, киргизы и другие косоглазые нахлынут сюда, но уже не в качестве туристов с миллиардами." Он заставлял своих слушателей ложиться на землю и, приложив ухо к земле, вслушиваться в гул шагов марширующих орд. Все замолкали и покорно ложились на землю и, действительно, вдали слышалось что-то вроде галопа. Нас, детей, это ужасно поражало. Его речь об утках напоминала настоящее пророчество, от которого зависели судьбы мира. В церкви мы должны были молиться за уток и зажигать свечи во имя спасения людей, которым, в свою очередь, тоже надлежало молиться за нас. Никогда не съедайте свою пищу до конца, оставьте некного уткам и тутси. Эти моральные обязательства стали необходимы для нас, как воздух, который мы с жадностью вдыхали в себя. А ведь дышать толком теперь уже никто не умеет. Точно так же, как и плавать. Все предпочитают копаться в дерьме, подобно петухам и свиньям. А я следую советам моего отца и скольжу по траве, как угорь и водная змея. Я помню о своем долге перед утками. У нас с Пресвятой Богородицей общий враг и мы идем навстречу ему, наспевая гимны. После того, как мой отец умер, я стал его любить сильнее, чем при жизни. Ведь больше нас никто не разделяет, мы окончательно с ним соединились. *** Мой отец совершенно правильно говорил, что слишком любит картины, чтобы видеть, как они страдают в музеях, что слишком любит диких животных, чтобы любоваться их страданиями в зоопарках, которые он считал тюрьмами. "В музеях картины несчастны, они не созданы для жизни в этих концлагерях, собранные все вместе, помещенные рядом с другими произведениями искусства, с которыми они вообще не могут сочетаться; одни художники вынуждены уживаться с другими, которых ненавидели при жизни. Картины созданы для жизни в домах, подобно домашним животным, кроме картин, которые созданы для церквей, где и должны оставаться." Правда, в зоопарках животные тоже несчастны, для них это как места заключения. Они не созданы для этого, птицы созданы для полета, львы для сражений, а рыбы для плавания среди волн. МУЗЕИ == ЗООПАРКАМ, мой отец был прав. Он был прав всегда. *** Наш отец, ненавидевший толпу настолько же, насколько любил личностей, всегда строго судил о музыке, о мелодиях, которые оставляют равнодушными личностей и увлекают за собой толпы. "Достаточно заиграть музыке на углу улицы, как люди начинают собираться вместе, именно так начинались все революции и все войны. Под звуки труб и барабанов солдат заставляли идти под пулеметы, церкви заполнены до отказа благодаря звукам органов, певцы собирают огромные залы и получают солидные гонорары. Слабого звучания рожка достаточно, чтобы народ поднялся, как один, а звучание фанфар заставляет их маршировать и идти на смерть. Раздается барабанная дробь и вот они выстраиваются в бесконечные шеренги. А если вы хотите вернуть их домой, просто заставьте замолчать барабаны! Музыка электризует толпы, но лишает воли индивидуумов." А отдельному человеку больше нравятся бесконечные убаюкивающие медленные ритмы. Если ему удобно сидеть, музыка вскоре усыпляет его. Стоит музыке зазвучать более резко, он встает со своего стула и выходит на улицу, где музыка звучит уже тише, и он снова полностью расслабляется. Следовательно, музыка смягчает нравы индивидуумов, которым бы не помешало взбодриться, и подстегивает толпы, которые, наоборот, нужно успокоить, как успокаивают диких животных и опасных безумцев. Следовательно, она совершенно некстати пробуждает спящих собак и усыпляет именно тех людей, которых хотелось бы видеть бодрствующими и никогда не спящими. Следовательно, музыка нам противопоказана. Вообще-то, нас она оставляла холодными, поэтому танцевать нам порой было нелегко. А танец был единственным развлечением в нашей жизни. Все наши самые обычные жесты: когда мы ходили, садились, поворачивали голову, брали какие-нибудь предметы, падали на землю, ложились, вставали, протягивали руку, приветствовали друг друга - были тщательно продуманы и отшлифованы, подобно произведениям искусства. Поэтому мой отец был воплощением грации и ловкости: в нем было что-то птичье и кошачье одновременно. Моя мать тоже ходила и будто не касалась земли ногами, она была настоящей Жизелью. Создавалось впечатление, что она вообще не знает, что такое кухня, и даже когда она чистила картошку или мыла посуду, мы видели в ней Жизель. Жизнь без танца превращается в каторгу. Она становится такой же безобразной, как любая работа, она начинает дурно пахнуть. Ноги людей, не умеющих танцевать, постепенно превращаются в обвисшие икры и ляжки, у них выпирают животы и ягодицы, а голова, посаженная прямо на плечи без участия шеи, воспринимается как уродливый шар. Когда они двигаются, каждое их движение сопровождается шумом. Они ставят на землю свои обутые ноги, и невозможно понять, как они ходят - ногами или ботинками. Их с трудом можно представить себе голыми, сразу же возникает страх обнаружить волосы там, где не нужно, странные жировые складки и выпирающие жуткие кости. *** Моя мать многое сделала для того, чтобы мы получили религиозное воспитание, с чем мой отец в конце концов согласился, причем не столько в наших интересах, сколько из страха перед Страшным Судом. Он был игрок, но с огнем играть не собирался. "А если Он все же существует? Мы не имеем права настраивать против Него детей. Если он есть, то вполне может своей властью отправить всех нас в Ад на целую вечность. Тогда как мораль, которую Он проповедует, нельзя назвать вредной для детей или для взрослых, хотя, бесспорно, пытаясь разделить Добро и Зло, то есть то, что разрешено и то, что запрещено, он культивирует нетерпимость, хотя это присутствует во всех религиях мира." Следовательно, он не был против естественной религии, которую диктовал нам инстинкт, не возражал против христианской морали, но выступал против отцов Церкви и Папства. По материнской линии мы были в родстве с самим кардиналом, поэтому отец никогда не порывал с католической церковью, но старался держаться от нее подальше. Когда же в ней стали происходить существенные перемены: стали изменяться обряды, замолчали органы в храмах, из церквей убрали цветы и излишнюю пышность, дети уже не пели в хоре, а хлеба не освящались, когда кюре упростили свою речь и стали говорить на обычном языке, -- мой отец еще больше отстранился от религии. "Если все будет продолжаться в том же духе, то скоро нас будут причащать тем же хлебом, с которым мы едим суп, -- тайком говорил он моей матери. - Месса прекрасна, пока она похожа на оперу и содержание ее недоступно широкому кругу простых людей. Как только все становится ясным и обыденным, смысл ее теряется, и она уподобляется простому блеянию." Беседы с Богом на том же языке, на котором говорят все чиновники и коммерсанты, казались ему такой же дикостью, как если бы священников одевали в рубашки и костюмы. В этом отношении моя мать была с ним совершенно согласна, но не передавала его слов ни кардиналу, ни одному из наших дальних родственников, назначенному кюре в глухой нормандской деревне. Однако кюре и кардинал никогда не встречались друг с другом. Кюре приезжал на вокзал Монпарнас, в одной руке у него бы молитвенник, а в другой корзинка - как у Красной Шапочки - а в ней цыпленок, яйца и овощи из собственного сада. От него пахло птичьим двором, и он с провинциальным акцентом рассказывал самые банальные и неинтересные вещи, которые мне когда-либо доводилось слышать. Приезд же к нам кардинала проходил совсем иначе. На вокзале его встречать было не нужно, он приезжал прямо к нам в лимузине с шофером, что вызывало пересуды во всем квартале. От него исходил специфический запах - вероятно, это были духи от Герлэна - а его высказывания были столь возвышенны, что буквально завораживали нас. На самом деле, он был более современным, чем деревенский кюре, -- он тайком занимался боксом и каратэ, и упражнялся вместе с ватиканскими полицейскими в стрельбе в тирах. Он рассказывал нам обо всем этом под конец трапезы, которую обильно орошал "Мутон Ротшильдом" и "Дом Периньоном". Он всегда носил с собой пистолет, который обычно демонстрировал между кофе и арманьяком. Он показывал, как нужно из него стрелять из положений лежа, стоя и сидя, и был при этом похож на настоящего ковбоя. Когда приходило время расставаться, он прятал свой пистолет под сутану, его лицо снова принимало умильное выражение, и он усаживался в лимузин под умиленными взглядами соседских консьержек, которых он всех благословлял. Отец втайне надеялся, что он станет папой, но Бог этого не захотел, потому что он погиб молодым в автомобильной катастрофе за рулем спортивного мотоцикла. Секретные службы Ватикана замаскировали это происшествие под сердечный приступ, случившийся у него во время службы в церкви. Есть люди, которые способны примирить вас и с громом, и с холерой. Думаю, что именно благодаря ему мой отец окончательно не порывал с церковью и именно поэтому религия, которой нас обучали, была гибкой, свободной от всякого сектанства и до такой степени экуменистической, что нам позволяли читать одновременно Коран и Евангелие. Нас всегда воспитывали в уважении к другим народам, к их мнению, традициям и к их верованиям. *** Мой отец гордился своим буржуазным происхождением. И у нас, действительно, никогда не было дворянского титула или герба. Ни один из наших предков не принадлежит к знатной фамилии, если не считать нашего странного родства с семьей Романовых, которое делало нас кузенами лучших европейских семей и коронованных особ. Дело в том, что кормилицей моего отца была одна бретонка, которая долгое время жила при русском дворе, где вскармливала грудью великую княгиню Ольгу. Таким образом, мы были Романовыми, правда, не по крови, а по молоку, так как великая княгиня была молочной сестрой моего отца. Убийство молочной сестры моего отца в Екатеринбурге было крайне болезненно воспринято членами нашей семьи, ибо эта трагедия для всех нас имела особый смысл: мой отец теперь мог оказаться чуть ли не единственным избежавшим смерти наследником царского престола. Нас воспитывали в уважении к мученикам, причем не столько к Николаю и царице, сколько к царевичу и великим княгиням. Мы должны были молиться за них по тысяче раз на дню и почитать их как святых невинных жертв варварства. Мы видели их фотографии в Царском Селе. Это были образцовые дети, маленький Алексей либо в матросском костюмчике, либо в форме офицера, пеший, верхом, со своим отцом, огромными, в два раза выше его ростом солдатами, на коленях у матери, с сестрами, на яхте своего отца, всегда такой одинокий, печальный и беззащитный. На фотографиях запечатлелся теперь уже навсегда канувший в прошлое довоенный мир, полный покоя, счастья и утонченной красоты. Этот маленький мальчик и эти девушки были воплощением цивилизации на краю пропасти, ибо оказалось достаточно двух или трех ублюдков в доме Ипатьева, чтобы их жизнь оборвалась, как будто кровь, хлынувшая на их шелковые воротники и кружева, могла смыть преступления, совершенные царями всего мира, которые, впрочем, не идут ни в какое сравнение с преступлениями придших им на смену борцов за установление диктатуры пролетариата. Мой отец хотя и был разночинцем, чем-то очень напоминал своего знаменитого родственника. Обычно люди смиряются с обыденным существованием, покорно несут свой крест и уповают на то, что они за их добропорядочное поведение им воздастся в ином мире, где их наконец отметят, усадив по праааавую руку от Господа. Он же уже в своей земной жизни не желал смешиваться с остальными людьми и делить судьбу обычных индивидуумов. Именно от него я, очевидно, унаследовал привычку никогда не есть, когда едят другие, ходить криво, если другие идут прямо, и думать иначе, чем они, причем зачастую вступая в противоречие со своими собственными наклонностями. Впрочем, даже если ты не являешься хромым и убогим, а простоь заставляешь себя думать и ходить иначе, чем другие, то постепенно это становится твоим естественным состоянием. *** Уже с раннего детства я, можно сказать, состоял в партии анархистов, отчего любое проявление конформизма вызывает у меня инстинктивное отвращение. В мою голову как бы заложили бомбу замедленного действия, заронили некое зерно, из которого рано или поздно должно было что-то произрасти. Многие годы я ношу в себе это чудовище, хотя его присутствие меня, скорее, тяготит, чем радует. Я постоянно испытываю на себе это дьявольское давление, но избавиться от него я не в силах. Эта бомба может взорваться в любую секунду, и мне приходится прилагать чудовищные усилия, чтобы этого не произошло. Я с ужасом думаю о том, что разлетевшись на тысячи маленьких кусочков и брызг, я посею кругом страшные разрушения. Я сам взорвусь вместе с этой бомбой, став первой жертвой своего воспитания, возможно, вместе со мной погибнет кто-нибудь еще, но я в этом не уверен. Ужасней всего было бы погибнуть одному, по мостовой будет стекать моя кровь, а тысячам прохожих будет абсолютно на это наплевать, и они даже не обернутся, чтобы взглянуть на еще одного только что убитого шута, кусками тела которого забиты все окрестные сточные канавы. Не хочется, чтобы после смерти тебя, не заметив, втоптали в грязь. Редко встречаются счастливчики, котоырм удается разрушить храм своего тела, большинство людей вынуждены сгнивать заживо в каких-нибудь унылых конторах. Я же так до сих пор и не понял, что мне делать с тем, что заложено в мой череп, и мысль об этом не дает мне покоя, порой я начинаю сомневаться в необходимости своего появления на свет. *** Я ненавижу пчелу, заставившую плакать Марго. Своей серьезной сосредоточенностью, трудолюбием и добропорядочностью он анапоминает ограниченного буржуа. Ее ставят в пример младшим школьникам, из которых хотят сделать покорных неприхотливых солдат, образцовых граждан, участь которых уже зараннее предрешена и ждет их, как гробы ждут покойников. Нет, пчеле я в любом случае предпочитаю журавля или, даже, сороку-воровку. *** Без взрослых мир был бы просторным и сказочно прекрасным. Можно было бы часами напролет наблюдать за падающим дождем, бродить босиком по песку, а вечером засыпать у огня, не думая о завтрашнем дне. По усыпанному сверкающими звездами небу проплывали бы гонимые ветром легкие облака так, будто это чьи-то неведомые тени уносятся по лазурному небу в никуда. Младшие братья по ночам прижимались бы к старшим. Не было бы ни самолетов, ни гражданских, ни военных, ни дирижаблей, ни "стрекоз", ни прочих мерзостей. Все улицы в городах вдоль стен домов заросли сорняками, отчего те стали похожи на большие деревни, деревья же были брошены и обречены на медленное умирание, как бывают брошены обреченные на смерть старики. *** Мысли, особенно в начале жизни, бродят в мозгу абсолютно беспорядочно. Странно видеть, как они порхают туда-сюда, будто огромные разноцветные бабочки, хорошие, плохие, благородные и преступные. Я же, в силу извращенности своего ума и своих дурных наклонностей, всегда предпочитал самые гнусные из них, хотя и скрывал их от других из страха перед исправительным домом. Узнай о них мой отец, он бы, наверняка, меня избил, а если бы о них узнали другие, то меня и вовсе живо сопровадили бы в колонию для малолетних преступников. Вмешательство взрослых в мыслительную деятельность детей чревато катастрофическими последствиями. Детям запрещено практически все, в том числе и то, чего требует их природа. Всопитание, основанное исключительно на запретах, вынуждает их свои самые мрачные мысли загонять вглубь подсознания, где те, предоставленные сами себе, образуют небольшие нарывы, на поверхности же остаются только самые общие мысли, то есть принадлежащие не им, а другим. Их собственные оригинальные задатки уничтожаются в зародыше - все должны мыслить одинаково, по одной схеме. Младенцам вполне можно было бы присваивать номера, наподобие того, как поступают с коровами и свиньями. Этот шаблонный подход , опробованный на бойне на животных, прекрасно подходит и для школьников. Подобная схема воспитания позволяет государству выращивать готовых на все подданных, чья неспособность самостоятельно мыслить делает их абсолютно послушными и лояльными.Прежде людей нужно было собирать на площадях, чтобы вбивать им в головы необходимые доктрины, а теперь их можно обрабатывать прямо на дому, всю семью сразу или отдельных граждан, когда они сидят в тепле и комфорте перед своими телевизорами. Конечно, к чести человеческого рода следует признать, что отдельные не поддающиеся оболваниванию личности еще встречаются. Этакие поганки, которых не удалось причесать под общую гребенку, свалить в общую кучу, загнать вместе с толпой на бойню, вот они образуют достаточно живописный контингент тех, что ходят не в ногу и носят яркую разноцветную одежду, не похожую ни на одну известную униформу. Среди них встречаются слезшие с деревьев дикари, зеленые яблоки и перезрелые фрукты, важные господа и простые тряпичники, которые взявшись за руки водят хоровод на радостном и шумном семейном празднике, беззаботном и торжественном одновременно. *** Целые поколения отправли в никуда, чтобы потом на полях сражений собрать в кучу мертвецов, хороших с одной стороны, плохих - с другой, святых и проклятых развеять по ветру, загнать всех в вечность, и все потому, что одни выиграли, а другие проиграли, так, будто кровь одних, пролитая другими, была кровью героев, а кровь других - кровью собак. Одним людям отводится место собак на помойке истории, в то время как другие объявляются небожителями, благородными патрициями, для которых возводятся пантеоны, которых повсюду сопровождают органы, рожки и барабаны. Что ж, побежденные вам следует пенять только на себя, надо было побеждать, тогда вы были бы на небесах, а другие - в сортире. Деление на добрых и злых окончательно, и ни у кого нет ни малейшего права на ошибку, побежденные виновны в пролитой крови победителей. Мертвые, вставайте, но не все. Сперва нужно пройти мимо окошечка, чтобы на вас поставили знак качества. Проверили у всех документы и убедились в вашей лояльности. На теплое местечко не так-то легко попасть. Внешности чиновника и постной мины на лице еще не достаточно. Необходимо личное приглашение на вечер. Благожертвенное исчезновение не менее важно, чем благородное происхождение. Нужно пройти через кассу. Умереть - это еще не все, необходимо, чтобы это произошло по достойной причине и сознательно. Не так-то просто умереть удачно, особенно если ты молод. Я знаю, что многие вроде были бы и не прочь, но они не уверены в стабильности Истории. Я не советую им рисковать. Черт бы ее побрал, но никогда точно не знаешь, в каком направлении она будет двигаться. Правда, всегда найдутся верховные жрецы, которые могут вам все объяснить, не стесняйтесь, валяйте, ребята, солидные бородачи с орденами почетного легиона, профессора и кюре - они вас успокоят. Ты уверен, сделал верную ставку, но тут вдруг ветер меняет свое направление, облака рассеиваются, появляются другие бородачи и эксперты, и колесо Истории поворачивает совсем в другую сторону. В одно мгновение вы превращаетесь в предателя. Вы, маленький примерный бойскаут, вдруг превращаетесь в убийцу. Ваша смерть оказывается совершенно напрасной. Так что поверьте мне, старой лисе - всегда лучше оставаться живым. А так как сегодняшние хорошие идеи завтра могут стать плохими, лучше и вовсе оставаться у себя дома, это вернее всего. В тепле. Сделайте вид, что вас ничего не интересует и постарайтесь сохранить холодную голову. Никогда не нужно поступать сгоряча. Молодым следует почаще окунать свою голову в холодную воду, дабы не жертвовать собой из-за какой-нибудь глупости. Особенно из-за идей! *** Если человек ненавидит себя самого и всех окружающих, то ему уже нечего терять. Отсутствие любви рождает ненависть. *** Когда детство уходит, ты открываешь для себя тщетность и бессмысленность всего земного, однако изнанка жизни поначалу завораживает твой взор. Со временем, копнув поглубже, многие детали становятся тебе более понятны: что значит идти вперед и оставаться на месте, смысл насилия свою беззащитность и прозрачность мутных вод. Тогда, молодо-зелено, можешь идти, куда тебе заблагорассудится, однако не следует слишком усердствовать, дабы не стать марионеткой в чужих руках, всегда лучше оставаться хозяином своей судьбы. Можно раскрашивать жирафов, глотать ящериц, развиваться духовно и физически, постигать смысл мироздания, тайну рождения жемчужин и загадку собственной смерти. Самое плохое, если ты решишь, что все это на самом деле постиг, лучше всего было бы умереть ребенком. КОНЕЦ |